Здесь, в больнице, ему было просто. Люди были заняты делом и судили друг о друге по делам, и не было ни зависти, ни подсиживаний, и к Вячеславу Алексеевичу относились как ко всем, может быть, лишь с чуть большим вниманием, раз он приехал из Москвы. Да и то это было на первых порах. И самое главное — был Оганесян.
Тон, конечно, задавал Акоп Христофорович, которого почитали главным не по должности, а по существу. Что же касается его должности, то знали и видели: больше, чем он, никто не работает, больше, чем ему, никому не достается.
Вячеслав Алексеевич обычно трудно сходился с людьми. Мешала застенчивость, а может быть, и настороженность, появившаяся с годами, когда, увы, приходилось в ком-то разочаровываться. Но с Оганесяном он мог бы сойтись. Мешало другое. Оганесян, конечно, знал причины отъезда Вячеслава Алексеевича из Москвы. А если и не знал поначалу, то узнал потом: он часто бывал в Москве по делам, и вряд ли там — в облздравотделе или министерстве не заходила речь о Кириллове. Там могли говорить всякое, Вячеслав Алексеевич прекрасно понимал это. И в этой ситуации пойти на откровенность с Акопом Христофоровичем — волей-неволей значило жаловаться, оправдываться, доказывать свою правоту и неправоту других, чего Вячеслав Алексеевич терпеть не мог ни в себе, ни в других местных «борцах за справедливость», которые практически боролись всегда не за справедливость вообще, а за свою справедливость, то есть за себя. Вячеслав Алексеевич не хитрил перед Оганесяном. Не говорил, что отложил защиту, поняв, что в диссертации мало практического материала, что приехал сюда, мол, как раз для того, чтобы еще и еще раз все проверить на опыте типичного массового лечебного учреждения. Он говорил проще: «Куда спешить? Успеется!» и что-то еще в этом духе. И Оганесян не стремился вызвать его на откровенность, хотя мог бы сказать: «Не морочьте мне голову, дорогой! Если б не было там у вас в клинике этой дурацкой склоки, вы прекрасно защитили бы докторскую, и не делали из себя наивного скромника, и не говорили: «Успеется!» Но Оганесян молчал. И спасибо ему.
Но, что греха таить, думал Вячеслав Алексеевич и о другом. И сейчас, стоя на берегу весенней речки, думал не раз и раньше, после приезда сюда. Он всегда гнал мысль об одиночестве, но в последние годы это одиночество все больше давало знать о себе. Он собирался в Москву, чтобы еще раз поговорить с Ириной, которую в глубине души жалел… И вот тогда этот вечер. Саша Неродова, лучшая из сестер и вообще умница, чудо-человек — у него дома…
Сашу он приметил с первых дней работы в больнице, и ему показалось, что в этой девочке есть что-то особое, притягательное, а позже он увидел ее на операции и понял, что вовсе она не девочка, а опытнейший медик, каким не часто бывают врачи и особенно — сестры.
Но самым удивительным было Сашино лицо. Вячеславу Алексеевичу казалось, что он знал его, знал давно, и не только лицо, а и весь ее облик, манеры, разговор — все это было знакомо издавна. Но логика подсказывала: это не так. Саша совсем еще девочка. Она росла и училась здесь, где он не был после войны, а до войны Саши не было на свете. Но сколько раз он думал, что видел ее, видел! И вот, когда она пришла к нему случайно и, сама того не подозревая, помогла принять правильное решение — не ехать в Москву, он окончательно понял: она близка ему и знакома давно, и он много раз думал о ней, вспоминал, звал ее по ночам, делился с ней дурным и хорошим. Оганесяну не смог бы, а ей мог бы рассказать обо всем, что наболело, и, он уверен, она поняла бы и не стала бы жалеть и сочувствовать, а просто сказала, что все это правильно. Она, Саша, ведь очень умная девушка, не похожая на других в больнице, хотя здесь вроде и нет плохих людей.
Сквозь пасмурную дымку робко выступило и засветило солнце. На отмелях заголосили птицы, и вода в реке, кажется, потекла быстрее, и громче зажурчали ручьи, а лягушки, освещенные солнцем, лениво шевелясь, уходили под воду. И уже не торчали из воды их головы и страшно выпученные глаза.
Вячеслав Алексеевич встал с березы, поваленной прошлогодней грозой, и стал подниматься вверх, к рынку. Ручьи гремели возле его ног, и все они неслись оттуда сверху, от города и от рынка.
Поднявшись наверх, Вячеслав Алексеевич не мог отказать себе в удовольствии еще раз пройтись по рыночным рядам. Он прислушивался к голосам. Тут, право, царил интернационализм — грузины, украинцы, белорусы, русские, молдаване, даже узбеки, продающие прошлогодний свежий виноград. Марксов закон стоимости… Спрос вызывал предложения. Предложения диктовали цену. Накладные расходы заезжих продавцов взвинчивали цены и вызывали порой скандалы. Огурцы из Цхинвали стоили в два раза дороже можайских, хотя и те и другие выращивались в парниках. Апельсины, купленные в Москве, продавались по двойной цене, пока не выяснилось, что рядом с рынком в магазине и на лотках продаются такие же апельсины из Москвы. Шампиньоны все обходили, поскольку никто из местных жителей не считал их грибами, зато сушеные грибы шли бойко. Грибы привозные. Странно. А сколько этих грибов здесь — только суши!
Читать дальше
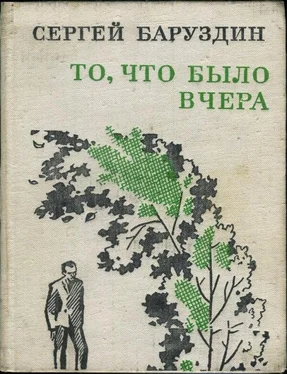




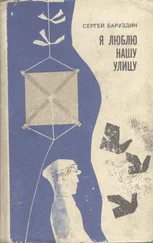
![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/429167/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si-thumb.webp)




