— Вот так, — сказал он.
— У вас, действительно, хорошо, — повторила Саша.
И опять они замолчали.
— Сашенька, включите, пожалуйста, радио, — вдруг попросил Вячеслав Алексеевич. — Там «Спидола» на столе.
Он назвал ее Сашенькой, и, кажется, это было впервые, и она почему-то смутилась, вспыхнула и тут же обрадовалась.
— А что там? — спросила Саша.
— Давайте послушаем насчет референдума. Утром не успел.
— Какого?
— Во Франции. Деголлевского, — объяснил Вячеслав Алексеевич, положив руки на стол. — Не знаю, как вы, а я чего-то не понимаю. И де Голль, по-моему, зря так…
Саше всегда казалось, что заведующий отделением всегда все понимает. А тут опять для нее неожиданное. Вячеслав Алексеевич признает сам, что чего-то не понимает.
Саша крутила ручку приемника.
— «Маяк» продолжает свои передачи, — сказало радио. — Передаем русские мелодии…
— И то хорошо, — сказал Вячеслав Алексеевич.
— А что?
— Да так… Слишком уж много всякого… В общем-то мне на автобус надо было. Но теперь уже не поеду. Не хочу!
— Это из-за меня? — робко спросила Саша.
— Что вы, Са… Что вы! Просто передумал…
Вячеслав Алексеевич был смущен, и Саша потому чувствовала себя не очень уютно, она услышала, поняла это недоговоренное «Са…».
— Я и спросить вас забыл: вы куда-то направляетесь?
— Да, к Лене Михайловой нашей, знаете? — сказала Саша. — Она здесь, на Интернациональной живет, рядом. Вот я к ней и шла…
— Ну бегите, бегите, не буду вас задерживать! — встал Вячеслав Алексеевич.
Уже прощаясь, Саша вдруг спросила:
— Вячеслав Алексеевич, а вы нам заметку напишите в первомайский номер? А то, знаете, никто не хочет…
— Если нужно, напишу, — согласился Вячеслав Алексеевич. — Только вы подумайте, о чем вам нужно, и скажите мне. Хорошо?
— Я подумаю, — пообещала Саша. — И скажу.
Он проводил Сашу через чужие пустые комнаты на улицу и к калитке. И здесь понял окончательно: никуда он не поедет. И все правильно.
Когда Саша ушла, он заметил вербу. Первое весеннее дерево уже выбросило свои мохнатые серые шарики и вот теперь ждет только тепла, чтобы первым расцвести этими ласковыми комочками. Они превратятся из серых в желтые раньше, чем появятся подснежники и одуванчики из не прогревшейся еще земли, раньше, чем вскроются почки на осине и ветле, и, может быть, вместе с прилетом скворцов. А потом зацветет орешник — тоже раннее дерево, и зазеленеет лиственница, и выплеснется из земли, поднимая сухую прошлогоднюю листву, свежая травка. Тогда и наступит весна.
Но не деревья, не цветы и не трава заявят о смене времени года и о том, что пришла наконец она, настоящая весна, а воздух, пахнущий прелью и свежестью, прогретый солнцем и теплом земли. И, конечно, птицы…
Птиц еще мало в этом году по запоздалой весне, точнее, не мало, а просто они боятся, что вновь грянет непрошеный снег и ударят заморозки, и таятся, дожидаются ясного, устойчивого дня — и синицы, и зеленушки, и мухоловки, и поползни, и все остальные, что живут здесь и переносят подмосковную зиму, и лишь дятлы, кажется, работают как ни в чем не бывало. Вот уж — настоящие работяги. И сейчас на соседнем участке слышится дробный стук, — это, конечно, он, дятел, стучит по сухому стволу дуба. И во всем этом есть свой определенный, ясный смысл.
И, конечно, в том, что именно сюда, в этот город, приехал Вячеслав Алексеевич, тоже есть свой смысл. Мало кто знает об этом, но ведь он родился здесь. Все, что было до немцев, до войны, он не помнит, но потом… Родители, убитые немцами, и дом, спаленный ими, хотя это было без него. Дом, каким он был тогда, не запомнился, а немцы, ворвавшиеся в город и, значит, в их дом, и потом спалившие все из огнеметов, запомнились. Запомнились по тому, как это было на Украине. А родители не запомнились, хотя он и пытался не раз вызывать в памяти их лица. Не было их лиц, а были другие — немецкие. И он не раз представлял, как фашисты стреляли в отца и мать и хихикали, кричали…
Вячеслав Алексеевич вернулся домой в неуютную комнату и ходил, ходил по ней. Шаг от дивана и назад до двери, три шага к столу и два к этажерке с книгами! Главное, вероятно, он понял: главное, что не надо ехать в Москву, но еще что-то неясное все вертелось в голове.
Да, вот что. Хорошо, что никто в этом городе не знает, почему он приехал именно сюда. Милый, добрый их главный — Акоп Христофорович Оганесян — не знает, хотя поначалу и допытывался. И никто в больнице, даже Саша, Сашенька — может, лучшая из всех, кто есть, — не знает.
Читать дальше
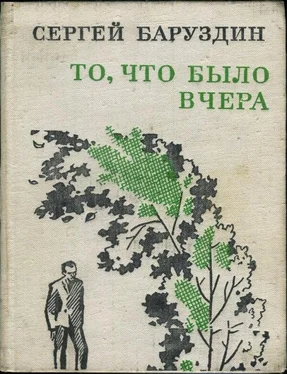




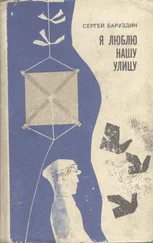
![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/429167/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si-thumb.webp)




