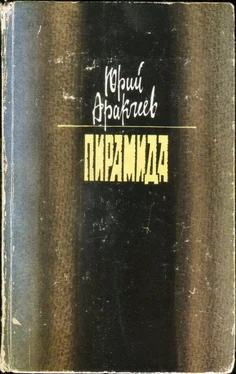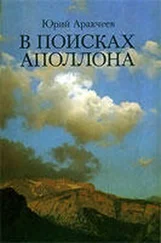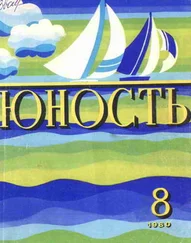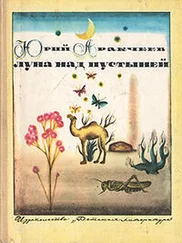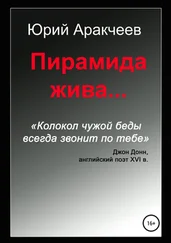Так думал я, и праведный пыл горел во мне. Много было следов, очень много, и я видел, что они ничуть не изгладились за прошедшее после процессов время. Я записывал тщательно все, что говорилось, чтобы разобраться потом в Москве, не поддаваясь, конечно, эмоциям тех или других, имея, однако, свидетельства из первых рук.
Некоторые из тех свидетельств уже вошли в «Высшую меру» (все они могут быть подтверждены документально), о других я постараюсь еще сказать, но все больше и больше я понимал, что главное было даже не в этих конкретностях. Главное — в тех обобщениях, которые уже напрашивались. Так тем более, тем — более…
Да, самое страшное, удручающее впечатление произвел на всех третий процесс. Он выглядел наиболее солидным внешне — по числу свидетелей, по длительности, от него ждали справедливости после второго, где начало истинному разбору дела было как будто бы положено, люди еще не успели по-настоящему разочароваться. Но они не знали, какой мастер в лице Бойченко взялся за фабрикацию материала, не ведали, сколь ревностный и « добросовестный » служащий выступит в роли председательствующего на этом суде. Служащий не богу, разумеется, — бога Наталья Гурьевна, судя по всему, давно отринула, не каким-то общечеловеческим абстракциям типа «добро», «любовь» и тому подобной «евангельской белиберде», не людям — что такое люди вообще перед светом высокой Идеи, горящей, очевидно, перед внутренним взором судьи, которая, как выяснилось потом, была в то время парторгом Верховного суда Туркмении? Гордилась, очевидно, Наталья Гурьевна той ролью, которую она исполняла верно и честно!
Да ведь и правда: если встать на определенную позицию, то что же это такое вообще, непонятно какие, случайные, никем не организованные люди, собравшиеся в зале суда (такие, в частности, как Люда, Алла, Юрий Тихонов, Василий Железнов, не говоря уже о Каспарове)? Разве стоят они чего-нибудь сами по себе?
Господствовало Служение Делу, и, мне казалось, я очень образно представлял себе ход мысли Натальи Гурьевны Милосердовой — все выстраивалось логично. Она представляла честь мундира, она руководствовалась пользой дела, а не «эмпирическими» рассуждениями о правде… Столько раз, очевидно, читала и слышала она о том, что смотреть на все нужно исключительно с «классовых» позиций, а они с Клименкиным и всеми, кто его защищает, явно же принадлежат к разным… Ну, не классам, конечно, а просто идейная устремленность, несомненно же, равная у них, вернее, у тех-то нет вообще никакой устремленности. Кто он такой, Клименкин? Несознательный, неразвитый, «условник». Одним словом — тормоз. На пути к нашей высокой цели. Так что… некоторые издержки тут вполне оправданы. Честь мундира, авторитет судебной системы республики, точнее, советской судебной системы, несоизмеримо важнее. Нам вредит каждая наша ошибка, а следовательно… Как можно меньше говорить об ошибках! Для пользы дела. Можно ради этого кое-чем (кое-кем) и пожертвовать. В конце концов и теми, кто защищает преступника…
Однако именно эта, неорганизованная, безыдейная, стихийная сила восстала против Натальи Гурьевны и разрушила четкое, полезное построение ее судебного разбирательства… Сумела-таки разрушить! Так, может быть, совесть личная дана человеку не просто так, что-то изначальное в ней все же есть, пренебрегать ею даже во имя дела, подменяя какой-либо «групповой» совестью, рискованно?..
Люда, Алла, Юрий Тихонов, Каспаров вспоминали детали процесса — вспыхивали непогасшие искры, — и постепенно вырисовывалась довольно яркая картина.
Один из свидетелей, Салахутдинов, пьяница запойный, «деклассированный элемент», алиментщик, зависимый от милиции по всем статьям, тщательно, разумеется, ею подготовленный, говорил все, что требовалось (он был одним из участников опознания). Но вот прокурор Виктор Петрович пережал: «Чего мнешься! Ты не темни, ты давай правду говори до конца, все, как было, а не то, сам знаешь…»
И сработало неучтенное:
— Да ты что на меня кричишь? Что ты кричишь на меня! — сорвался Салахутдинов. — Я всю правду скажу!
И началось…
— Меня Ахатов научил, что говорить надо, он на машине ко мне приезжал, уговаривал…
Вот она, природа человеческая, жестокие судьи! Трудно нам, живым людям, без правды, лгать мы можем, конечно, но до известного предела. Затронешь в нас сокровенное, и не выдержим, сорвемся. Природу свою человеческую выпустим на свободу, а уж тогда извините… Можете вы нас запутать, но… Ваши установки — одно, жизнь — другое.
Читать дальше