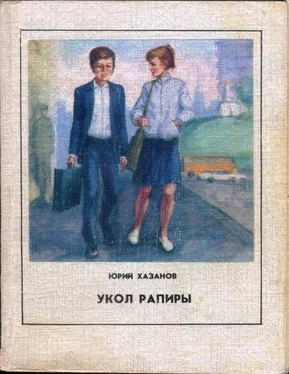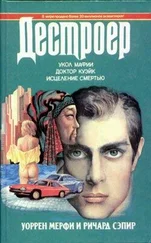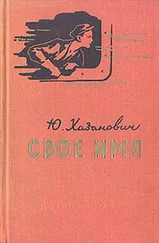— Катерина Павловна, — говорит Игорь, — а правда, будто ученые считают, что у собак и у кошек такое биополе, что в доме их держать полезно для человека?
— Правда, — отвечает Екатерина Павловна. — Только я держу не из-за этого… Тина, пойди сюда!
И она погладила шелковистое ухо Тины.
Из печати
«…Да, мы хотим открыть школу на кооперативных началах. Будем обучать старшеклассников по индивидуальным программам. Зачем это? Затем, чтобы помочь рождению новых Ньютонов, Ландау, Эйнштейнов… Скажете, это будет элитарная школа, исключительная… А талант разве не исключительность?
В средней школе ко всем предъявляют одни, средние, требования и от всех хотят одного — хороших отметок, а это неправильно. Мы собираемся предложить новый школьный курс и несколько факультативов: пусть их выбирает сам ученик.
Что насчет общественно полезного труда? Ну, ведь это не обязательно ручной или машинный. Ученики могли бы вести уроки в младших классах, читать лекции от общества «Знание», переводить техническую литературу, работать в музеях, в архивах, помогать инвалидам, престарелым…
У нас не будет директора, завучей, специальных воспитателей. Будет общий совет — учителей, школьников, родителей.
Не боимся ли за дисциплину? Нисколько. Ведь если всем интересно, кто будет «бузить», как наши отцы говорили? Ну а коли кто-то в самом деле не захочет учиться, упрашивать и тянуть, как сейчас в школе, не станем. И натягивать отметки тоже. Скатертью дорожка!
Ничего страшного, если у нас в стране будут малограмотные и даже безграмотные — это лучше, чем фиктивное всеобщее среднее образование, когда окончившие школу или институт в слове «здравствуй» делают не меньше трех ошибок и пребывают в твердой уверенности, что «Гондурас» это не страна, а фирма вроде «Адидаса». Почему-то в Соединенных Штатах, по их же сведениям, довольно много неграмотных, но это не мешает государству занимать совсем неплохое место в мире по уровню жизни и техники.
Главный наш девиз будет — не «должен», а «можешь». А по-настоящему захочешь — сможешь еще лучше…
Школы должны быть самые разные — на разные потребности, способности, вкусы. Как товары в нормальных магазинах. В этом залог их жизнеспособности…»
Мила Черных росла счастливой. Ее любили и носили на руках, даже когда она подросла настолько, что физически это стало невозможно. Особенно отец — высокий, громкоголосый, с курчавыми волосами и редкими зубами; он многое любил в жизни: хорошо поесть, отменно принять друзей, громко повеселиться, послушать эстрадную музыку, побегать с пуделем Кентом, поиграть с котом Барсиком. Он даже без неудовольствия сутками лежал под своим «Москвичом» или возил дальних родственников по магазинам и на дачу — во всяком случае, вслух своей досады не выражал. Но больше всего Дмитрий Антонович любил книги. Он не относился к тем собирателям, которые коллекционируют их, как марки или, скажем, прялки — за красоту, форму, расцветку, оригинальность. Хотя не бросил бы камень и в таких людей. Что плохого, если книга им нравится в первую очередь как предмет и они склонны просто любоваться ею. Посмотрят, посмотрят, а там возьмут и прочтут… Не случайно ведь ее старались всегда сделать привлекательной — с тиснением, с золотым обрезом, с красивыми буквами и картинкой на переплете и на титуле. И не вина коллекционера, если книга стала дефицитом и ее не купишь ни для чтения, ни для того, чтобы порадовать глаз. А если и достанешь — повезет! — то большей частью плохо сброшюрованную, страницы разлезаются, иллюстрации тусклые, переплет перекошен, сморщен, помят…
Дмитрий Антонович по-настоящему любил книги. Как живых; как животных. Именно потому он особенно переживал, что их не хватает. И как не хватает! Причем любых: научных, приключенческих, классики. А детективы возьмите! Сколько есть хороших иностранных, ему рассказывали, но пока переведут, пока издадут — дуба дать можно. То у них бумаги нет, то автор там, у себя в Трамтамтании, сказал что-то не то, то он слишком выражает сущность своего класса, а чьего же он должен выражать?! В общем, деятельная книголюбивая душа Дмитрия Антоновича не могла смириться с таким положением. И что же он придумал? А вот что: предложил одному-другому приятелю, знавшему иностранные языки, перевести что-нибудь интересное из книг, которые ходят по рукам или продаются у букиниста. Так — для себя, для знакомых… Идея понравилась. Переводы, правда, были скороспелые, неквалифицированные, но приятели с удовольствием тратили время: читали, отбирали, переводили, печатали на машинке, даже иногда переплеты красивые делали.
Читать дальше