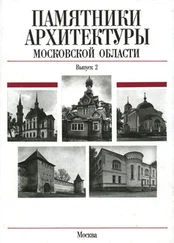Нечто похожее на такое умопомрачение светилось и в фосфорических, остановившихся, расширенных зрачках Адины Бугуш. В ее голосе, прерывистом и мрачном, слышалась одержимость обитателей сумасшедшего дома.
— Вы поняли, что я сказала? Вы меня слышите?
Она ждала, наклонившись над ним. Так низко, что он чувствовал на лице ее горячее дыхание.
Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза. И промолчал.
Беспомощная, глуповатая улыбка застыла на его лице. Трое Тудоров Стоенеску-Стоянов из трехстворчатого зеркала боролись в его душе. А он-то думал, что запер их в комнате и навсегда избавился от них, утопив в тех трех стоячих омутах. Но они выбрались оттуда. Тайком пробрались сюда. И вот они здесь. Спорят, кому из них подменить его. Чья очередь и у кого больше прав. Тудор Стоенеску-Стоян — Гулливер из страны великанов — подавлен собственным ничтожеством и с горечью сознает, сколь недостоин он великодушных советов этой женщины. И сжимается, презренный и жалкий, чувствуя себя еще крохотнее, еще презреннее. Ему бы обрести голос и поведать ей грустную и безнадежную правду: «Я таков, каким ты меня видишь, а вовсе не тот, каким вообразила. И таким я был всегда. Оттого и сбежал сюда. Мне так мало нужно! Я ищу уголок, чтобы великаны не могли меня растоптать своими тяжелыми башмаками. Прими меня таким, каков я есть! Протяни руку помощи, чтоб мне хватило сил устроить жизнь по моим скромным возможностям, — как протянул свою братскую руку мой старый друг Санди». Но от обиды своей и бессильного унижения не может он обрести голоса. Им завладел другой Тудор Стоенеску-Стоян — Гулливер в стране лилипутов. Он разросся, стал точно таким, каким вообразила его Адина Бугуш. Вновь ожил, обрел очертания и размеры, жадно впитывал каждое слово, и слова, словно волшебное зелье, подкрепляли его. Ни за что на свете не разрушит он иллюзий Адины Бугуш неосторожным признанием. Все для него встало теперь на свои места; он ждал, хотел и заслуживал забот и советов этой женщины; ее опасения увидеть его пленником лилипутов; страха, как бы он не увяз в их мерзком стоячем болоте; заслуживал мольбы не отрекаться от жребия великих, от судьбы, скроенной для макромиров. Борьба за превосходство над униженным и скорбным тезкой, за устранение его оказалась детской игрой. Сопротивление было слабым и нерешительным. И теперь, обладая всей полнотой власти, он, как всякий узурпатор, с удовольствием слушал лестные речи, ласкавшие его слух и тешившие тщеславие. В его присутствии даже третий — повседневный Тудор Стоенеску-Стоян без особых примет в бессрочном паспорте — стушевался и почти не подавал признаков жизни. Отказавшись от сопротивления, он не чувствовал угрызений совести; напротив, из-за какого-то болезненного сдвига в сознании вдруг почувствовал себя чуть ли не умышленно обманутым: ведь его сон сбылся только наполовину, эта женщина предложила ему уехать одному, вместо того чтобы умолять: «Возьми с собой и меня!» Такая неблагодарность терзала его сердце, как предательство.
— Вы мне так ничего и не ответите? — настаивала Адина Бугуш.
Ответом ей были молчание и рассеянная улыбка Тудора Стоенеску-Стояна. Смысл этого ответа не оставлял никаких сомнений.
Женщина выпрямилась и истерически рассмеялась.
— А! Так я и знала! Этого следовало ожидать. Санди оказался сильнее меня!
— Нет… но…
— Никаких «но»! Что ж, во всяком случае, я выполнила свой долг. Моя совесть чиста. Dixi et salvavi animam meam [15] Сказал и тем спас свою душу (лат.) .
. Будем считать эту главу законченной. Думаю только, что скоро я вновь увижу вас на этом стуле. И не потому, что я вас позову. И вам будет не до улыбок, как теперь. Вы придете, чтобы признать, насколько я была права, и пожалеть, что не послушались моего совета и время упущено. Потому что именно таков будет эпилог! Не завтра, так послезавтра вы поймете, что уже слишком поздно…
Адина Бугуш отыскала на стеклянном столике среди флаконов и пульверизаторов черный лаковый портсигар. Закурила сигарету и снова опустилась на низкий стул. Опершись локтем о колено, она долго и пытливо вглядывалась в неподвижное лицо мужчины.
В этом молчаливом и жестоком допросе было сочувствие, доброжелательность, любопытство. И грусть.
Быть может, в нерешительной и напряженной улыбке мужчины ей приоткрылась на миг его тройственная суть, явленная зеркалом с тремя створками, — так в неудавшемся сплаве различают остатки несоединившихся металлов. Тудор Стоенеску-Стоян не вынес напряженного молчания и пристального взгляда, проникавшего в такие тайники его души, которые сам он не решился бы потревожить.
Читать дальше
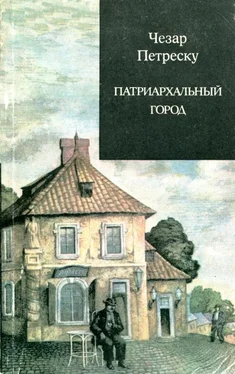


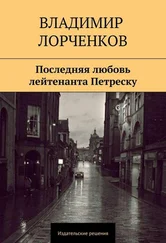





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)