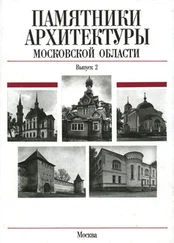— Что, Ионикэ, родной?
— Я хочу тебя попросить, мама. Ребячество, конечно. Но ты ведь не станешь смеяться, нет?.. Скажи, красная шкатулка с музыкой жива еще?
— Жива, Ионикэ. Жива и даже играет! Погоди-ка…
Она поняла вопрос и ничуть ему не удивилась. Она его ждала. У нее было предчувствие, что он скоро спросит об этом, догадалась по той знакомой мягкости, с которой он назвал ее «мама». Именно так обращался к ней другой Ионикэ, когда просил пустить музыку из коробочки… Она накинула шаль на плечи. Пошла под дождь, через галерею в комнаты жильца. Оставшись один, Ион Янкович как-то разом переменился, с лица исчезла суровость, исчезло выражение угрюмой решимости. Печально обвел он глазами стены, половики на полу, икону; взяв карточку со столика, поглядел на себя. Худой лысый мужчина смотрел на мальчика со светлыми кудряшками. Осторожно присел на край кровати. Подпер ладонями щеки. И сидел так, не шевелясь, пока не услыхал снаружи шорох — шорох руки, отыскивающей в темноте скобку двери.
Тогда он встал и, принужденно засмеявшись, шагнул навстречу старухе.
— Все это ребячество! Глупость! Не стоит… Неси ее прочь!..
Он говорил, как бы убеждая самого себя. Старуха, казалось, его и не слышала.
— Вот, Ионикэ, родной, твоя шкатулочка, в целости и сохранности. Сколько лет тебя дожидается!..
Ион Янкович вертел игрушку в узловатых волосатых пальцах с неожиданной нежностью — словно великан, лелеющий таинственную и хрупкую драгоценность.
— Ты говоришь, она еще играет, мама?
— Разумеется, Ионикэ. Я недавно ее заводила. Для тебя, сынок… Мы еще поговорим об этом… Поверни ключик. Ты еще помнишь, как она действует?
— Посмотрим…
Его громадные руки дрожали; дрожал голос; дрожал в пальцах латунный ключик. Он завел пружину до отказа. Старуха увидела прежнего мальчика, который, когда ждал, от напряжения закусывал губы. Узнала она и ту осторожность, с которой он поставил шкатулку на стол, ожидая музыки. Точь-в-точь ее прежний Ионикэ! Они ждали. Из коробочки раздалось металлическое жужжание, но тут же прекратилось. И все — больше ни звука. Ион Янкович потряс плюшевую коробочку. Старуха тоже. Они переглянулись. Ни звука! Не слышно даже металлического жужжания. Музыка в коробочке умерла. Наступила гнетущая тишина.
— Этого не может быть, Ионикэ, родной…
— Как видишь, может! — горько рассмеялся он. — Впрочем, все это глупость! Дряблая сентиментальность, унаследованная от тебя… Ветхие оковы, которые пора сбросить.
Он говорил с подчеркнутым безразличием. Но по вздувшимся желвакам старуха видела, каких усилий стоило подавить свою боль тому, кто когда-то был малышом Ионикэ.
— Давай еще разок попробуем, Ионикэ, родной.
— Пожалуйста, убери ее!
— Может, что с механизмом!..
— Пожалуйста, убери, а то разобью!..
Поднятый, словно молот, кулак был достаточно тяжелым, чтобы разнести игрушку вдребезги. Лауренция Янкович унесла шкатулку в другую комнату.
— Завтра я ее починю… — пообещала она, обернувшись, — Завтра утром она заиграет снова, Ионикэ, не горюй…
— Завтра? — снова засмеялся мужчина. — Ха-ха! Завтра! Завтра можешь чинить в свое удовольствие… А теперь оставь меня, пожалуйста, одного. Я хочу спать…
Старуха приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его лысину, как когда-то целовала перед сном кудрявую головку сыночка Ионикэ.
— Спокойной ночи, Ионикэ, родной.
— Прости меня, мама, за все обиды и огорчения, которые я тебе доставил…
Старуха хотела что-то ответить. Он остановил ее движением руки.
— Хватит! Только не забудь закрыть за собой. Я не могу спать при распахнутых дверях. Привык спать за дверью с тремя запорами.
Старуха притворила за собой дверь. Завела часы на стене и на ночном столике. Прислушалась к дыханию за стеной. Она знала, что человек за стеной ворочается с боку на бок, никак не может заснуть. Наконец, к утру, когда уже запели петухи, усталость сморила ее, и она заснула. Сколько она проспала: пять минут, десять, час? Она вскочила, пробудившись от всегдашнего, теперь уже бессмысленного сна, и закричала: «Не уходи, Ионикэ, не уходи!» Прислушалась к дыханию в соседней комнате. Ни звука. Тихонько приоткрыла дверь. Никого. Постель смята. Ни костюма, ни шапки, ни плаща. Только запах резины да все еще влажные пятна следов на половике, по которому ползал когда-то на четвереньках мальчуган с карточки в рамке со стеклом. К подушке приколота иголкой записка:
«Мама, счастливо оставаться. Никто не должен знать, что я здесь был. Так лучше и для меня, и для тебя. Запомни: никто. Даже если тебя спросят, даже если станут допрашивать. Скажешь, что заходил незнакомый человек, вроде плотник, спрашивал, не надо ли что сделать, починить. Словом, бродяга, ведь я бродяга и есть. Ты тут, мама, ни в чем не виновата, виновата жизнь. Всего тебе доброго, мама, только доброго».
Читать дальше
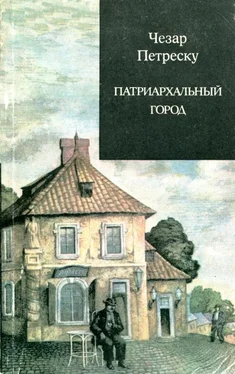


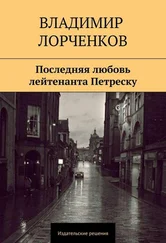





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)