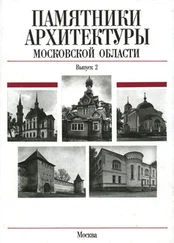Может быть, именно там счастье.
И конечно, там мудрость и примирение с жизнью.
На другой день к вечеру, примерно за час до отхода поезда, Тудор Стоенеску-Стоян приехал на Северный вокзал и отправился в ресторан. Он чувствовал себя эмигрантом, который, навсегда покидая родные места, хочет со вкусом обставить момент расставания, вобрать в себя образы и воспоминания, чтобы было чем питать горькое сладострастие ностальгии. Он заказал обильный ужин, ел не спеша, в окружении отъезжающих дачников, горой громоздившихся чемоданов и саквояжей, непоседливых детей, застенчивых гувернанток, смиренно примостившихся на краешке стула подле стола хозяев. Заказал чашечку кофе и, закурив сигару, впитывал предотъездную суету, которая всегда приятно кружила голову, словно сладкий и душистый ликер, может быть, излишне крепкий.
Он разглядывал всех, но никто, как обычно, не глядел на него.
От соседнего столика до него доносился разговор, который только и можно услышать в привокзальном ресторане.
Разговаривали двое мужчин. Неизвестные и безымянные, как и он сам.
Но насколько другие, непохожие на него даже в своей безымянности! Один — высокий, широкоплечий господин, с гривой седых волнистых волос, правильными чертами лица и холодными серо-голубыми глазами. Второй — загорелый, молодой человек, с гибкими кошачьими движеньями и белыми, крепкими зубами хищника. Оба в дорогих костюмах изысканно-простого покроя. В обоих чувствовалась порода, и женщины, проходя мимо них, оглядывались, любуясь этими двумя образчиками зрелой и юной мужской красоты. Но собеседники, поглощенные разговором, этих взглядов не замечали.
— Твой автор прав! — говорил седой мужчина, убирая перчатки с желтого томика, чтобы взглянуть на название. — Имя новое, мне оно неизвестно. Я остаюсь верен моим любимым книгам двадцатилетней давности… Но он прав. В жизни человека резкий поворот — явление замечательное и благотворное. Отступления, падения, колебания, поражения и новые взлеты — вот что придает ценность человеческой судьбе. Прямая линия умозрительна, а потому неестественна для такого несуразного мира, как наш, основанного на слишком ветхих устоях, которые уже не соответствуют новым, все более противоречивым условиям жизни, постоянно требующим пересмотра, приспособления, исправления. В таком мире прямая линия противна природе, противопоказана теперешней действительности. Я не понимаю суровости так называемых великих праведников. Их суровость подозрительна и бесчеловечна. Она свидетельствует о каком-то врожденном изъяне. Легко стать праведницей женщине, родившейся с горбом на спине. Легко блюсти целомудрие мужчине, подвергшемуся операции, необходимой для секты скопцов. А раз легко, то какая в этом заслуга? Добродетель чего-то стоит, если за нее заплачено внутренней борьбой, преодолением собственной слабости. Если, упав, ты сумел подняться. Доживешь до моих лет, поймешь, как я был прав…
— Знаю, дядя Серджиу, — прервал его молодой человек, обнажая в улыбке такие белые и ровные зубы, что они оставляли неприятное впечатление искусственных. — Каждый в свой черед повторяет: «доживешь до моих лет». Наверняка лет двадцать — тридцать тому назад это же говорил тебе дедушка. А лет двадцать — тридцать спустя и я то же самое повторю сыну или племяннику.
— Возможно. Не спорю… Каждое поколение хочет навязать следующему свой опыт, убеждения, образ жизни. А новое поколение каждый раз отвергает все это, потому что хочет, на свой собственный страх и риск, открыть их для себя заново. Тут мы с тобой согласны.
Молодой поднял на собеседника бархатисто-нежный торжествующий взгляд:
— Значит, и спорить не о чем, дядя Серджиу. Но тогда пресловутая эстафета с факелом, «ликующие лампадоносцы» — всего-навсего красивая ложь. Сильной руке незачем подхватывать факел из руки ослабевшей, потому что она не собирается сберегать огонь. Напротив, получив зажженный факел, мы гасим его, если он слишком чадит, с тем чтобы зажечь его собственной рукой, каждый для себя, и пронести его по миру, который всякий раз уже не похож на вчерашний. Беспрестанно меняется. Но меняется, к сожалению, оставаясь на прежних устоях. Судьба этого древнего огня, зажженного еще эллинами, волнует нас до тех пор, пока факел у нас в руках. После нас его зажгут, сохранят или погасят другие… Не потому, что нам это безразлично. Мы просто не можем себе представить, что будет спустя четверть века, полвека, век. А раз так, то стоит ли брать на себя эту заботу? Об этом позаботится жизнь, люди завтрашнего дня, которых мне не дано ни узнать, ни представить… Вполне возможно, наш теперешний образ мыслей, чувства, страдания и поиски покажутся им до убожества примитивными. Им будет жаль меня за мою отсталость, хотя бы я сам и считал, что иду в ногу с веком, хотя бы и казался себе современным, ультрасовременным человеком. Все это станет для них старым хламом, анахронизмом, отжившими трагикомическими предрассудками. Это я знаю! А что я могу поделать? Хочешь не хочешь, приходится жить опытом своего времени и своего возраста. И разве кому-нибудь удалось через это перескочить?
Читать дальше
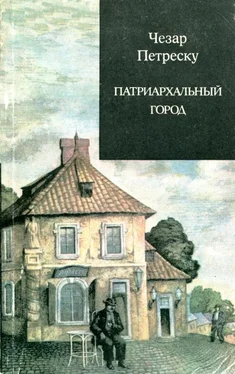


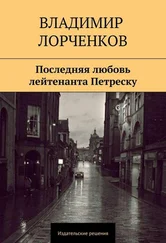





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)