– Надо потолковать с фельдшером, чтобы остаться вместе, Альберт.
Мне удается сказать фельдшеру несколько нужных слов и вручить две сигары с опоясками из моих запасов. Он нюхает их, спрашивает:
– А у тебя есть еще?
– Найдутся, – отвечаю я, – и у моего товарища тоже. – Показываю на Кроппа. – Мы оба с удовольствием передадим их вам из окна поезда.
Он, конечно, смекает, еще раз нюхает и говорит:
– Заметано.
Ночью мы не смыкаем глаз. У нас в палате умирает семь человек. Один целый час высоким надломленным тенором распевает хоралы, потом начинает хрипеть. Другой умудряется вылезти из койки и доползти до окна. И лежит там, словно напоследок хотел поглядеть на улицу.
* * *
Наши носилки стоят на вокзале. Ждем санпоезда. Идет дождь, а вокзал без навеса. Одеяла тонкие. Ждем уже два часа.
Фельдшер опекает нас как родная мать. Хотя мне очень плохо, я не забываю про наш план. Невзначай показываю ему сверточки и выдаю одну сигару в качестве задатка. За это фельдшер укрывает нас брезентом.
– Альберт, дружище, – вспоминаю я, – наша кровать с пологом и котенок…
– И клубные кресла, – добавляет он.
Да, клубные кресла из красного плюша. Вечерами мы сидели в них как князья и даже намеревались позднее сдавать их по часовой таксе. Сигарета за час. Беззаботная жизнь и неплохой гешефт.
– Альберт, – опять вспоминаю я, – а наши мешки со жратвой!
Мы огорчаемся. Они бы нам пригодились. Если бы поезд уходил на день позже, Кач наверняка бы разыскал и принес наше добро.
Вот ведь окаянная судьба. В желудках у нас мучная баланда, жиденький лазаретный суп, а в мешках-то свиная тушенка. Но мы так ослабели, что уже и расстраиваться по этому поводу не в силах.
Когда прибывает санпоезд, носилки насквозь мокрые. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Там множество сестер из Красного Креста. Кроппа кладут на нижнюю койку. Меня поднимают, чтобы я занял койку над ним.
– Господи Боже! – невольно восклицаю я.
– Что такое? – спрашивает сестра.
Я гляжу на постель. Там белоснежное белье, невероятно чистое, даже со складками от утюга. А моя рубаха шесть недель не стирана, чудовищно грязная.
– Сами переползти не можете? – озабоченно осведомляется сестра.
– Могу, – обливаясь потом, отвечаю я, – но сперва снимите постельное белье.
– Почему?
Я чувствую себя свиньей. Мне лечь туда?
– Так ведь оно… – Я медлю.
– Немножко запачкается? – бодро спрашивает она. – Ничего страшного, выстираем снова, и дело с концом.
– Да нет… – с жаром говорю я. До такого натиска культуры я не дорос.
– За то, что вы были на фронте, в окопах, мы вполне можем выстирать лишнюю простыню, – продолжает сестра.
Я смотрю на нее – свеженькая, молодая, дочиста вымытая и изящная, как всё здесь, уму непостижимо, что это не только для офицеров, чувствуешь себя неуютно и даже как бы под угрозой.
Не женщина, а палач, она заставляет меня сказать все.
– Просто… – Я умолкаю, должна же она понять, что́ я имею в виду.
– Так в чем же дело?
– Во вшах, – в конце концов выпаливаю я.
Она смеется:
– Им тоже не грех пожить в свое удовольствие!
Ну, коли так, и мне все равно. Я забираюсь в постель, укрываюсь одеялом.
Чья-то рука ощупывает одеяло. Фельдшер. Уходит он с сигарами.
Через час мы замечаем, что поезд движется.
Ночью я просыпаюсь. Кропп тоже ворочается. Поезд тихо постукивает по рельсам. Пока что все непостижимо: постель, санпоезд, домой.
– Альберт! – шепчу я.
– Да?..
– Знаешь, где тут сортир?
– По-моему, в конце вагона, справа.
– Пойду посмотрю.
Темно, я нащупываю край койки, хочу осторожно соскользнуть вниз. Но здоровая нога не находит опоры, от загипсованной ноги помощи никакой, и я с грохотом падаю на пол.
Вполголоса чертыхаюсь.
– Ушибся? – спрашивает Кропп.
– Сам небось слышал, – сердито ворчу я, – голова… В конце вагона отворяется дверь. Сестра со свечой.
Видит меня.
– Он упал с койки…
Она щупает мне пульс, кладет ладонь на лоб.
– Но у вас ведь нет жара.
– Верно, нет… – соглашаюсь я.
– Вам что-то приснилось? – спрашивает она.
– Ну, вроде как… – уклончиво говорю я. Сейчас опять начнутся расспросы. Она глядит на меня блестящими глазами, такая чистенькая и чу́дная, и я, конечно же, никак не могу сказать ей, что мне нужно.
Меня снова поднимают наверх. Ладно, пускай. Когда она уйдет, придется сразу еще раз попробовать слезть. Будь на ее месте старая женщина, сказать, в чем дело, было бы легче, но она совсем молодая, не старше двадцати пяти, ничего не выйдет, не могу я ей сказать.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


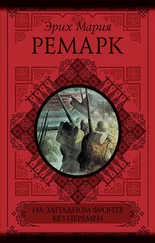

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



