– Да, он умер мгновенно.
– Ты даже готов не вернуться, если сказал неправду?
– Чтоб я не вернулся, если он не умер мгновенно.
Я бы взял на себя бог весть что еще. Но, кажется, она верит. Стонет и долго плачет. Просит рассказать, как это было, и я придумываю историю, в которую теперь и сам почти верю.
Когда я ухожу, она целует меня и дарит мне его фото. На снимке он в форме новобранца стоит, опершись на круглый стол, ножки которого сделаны из неошкуренных березовых сучьев. За спиной – кулиса с нарисованным лесом. На столе – пивная кружка.
Последний вечер дома. Все молчаливы. Я рано ухожу спать, ощупываю подушки, прижимаю к себе, зарываюсь в них головой. Кто знает, доведется ли мне снова лежать в перинах!
В поздний час мама заходит ко мне в комнату. Думает, я сплю, и я притворяюсь спящим. Разговаривать, бодрствовать вдвоем слишком тягостно.
Она сидит почти до утра, хотя порой корчится от мучительной боли. В конце концов я не выдерживаю, делаю вид, что просыпаюсь.
– Иди спать, мама, ты здесь простудишься.
Она говорит:
– Позже хватит времени отоспаться.
Я приподнимаюсь.
– Я ведь не сразу на фронт, мама. Сперва четыре недели пробуду в учебном лагере. А оттуда, может, сумею приехать как-нибудь в воскресенье.
Она молчит. Потом тихо спрашивает:
– Тебе очень страшно?
– Нет, мама.
– Хотела вот что тебе сказать: ты остерегайся женщин во Франции. Они там дурные.
Ах, мама, мама! Для тебя я ребенок – почему я не могу положить голову тебе на колени и поплакать? Почему я все время должен быть сильным и сдержанным, мне ведь тоже хочется разок поплакать и получить утешение, я ведь вправду почти ребенок, в шкафу еще висят мои короткие мальчишечьи штаны, – с той поры прошло так мало времени, почему все это миновало?
Как можно спокойнее я говорю:
– Там, где мы стоим, женщин нет, мама.
– И будь поосторожней там, на фронте, Пауль.
Ах, мама, мама! Почему я не обниму тебя и не умру вместе с тобой? Какие мы все ж таки горемыки!
– Да, мама, обязательно.
– Я буду каждый день молиться за тебя, Пауль.
Ах, мама, мама! Давай встанем и уйдем, назад сквозь годы, пока вся эта беда не свалится с наших плеч, назад, только к тебе и ко мне, мама!
– Может, сумеешь получить должность, где не так опасно.
– Да, мама, может быть, попаду на кухню, вполне может быть.
– Соглашайся, что бы другие ни говорили…
– До этого мне вообще нет дела, мама…
Она вздыхает. Ее лицо – белый отсвет в темноте.
– Теперь тебе надо лечь и поспать, мама.
Она не отвечает. Я встаю, укрываю ее плечи одеялом. Она опирается на мою руку, ее мучает боль. Я отношу ее в постель. Ненадолго задерживаюсь рядом.
– Ты должна выздороветь, мама, к моему возвращению.
– Да-да, дитя мое.
– И не присылайте мне съестное, мама. У нас там еды достаточно. Вам все это нужнее.
Какая несчастная она лежит в постели, она, что любит меня, любит больше всего на свете. Когда я собираюсь уходить, она торопливо говорит:
– Я достала для тебя еще две пары кальсон. Хорошие, шерстяные. Не дадут замерзнуть. Смотри не забудь взять их с собой.
Ах, мама, я знаю, сколько стояния в очередях, хождений и выпрашиваний стоили тебе эти кальсоны! Ах, мама, мама, уму непостижимо, что я должен уйти от тебя, ведь кто еще имеет право на меня, как не ты. Пока что я сижу здесь, а ты лежишь там, нам нужно так много сказать друг другу, но мы не сумеем.
– Покойной ночи, мама.
– Покойной ночи, дитя мое.
В комнате темно. Слышно, как дышит мама. Тикают часы. За окнами ветер. Каштаны шумят.
В передней я спотыкаюсь о ранец, он стоит уложенный, так как утром я ухожу очень рано.
Я кусаю подушки, судорожно сжимаю железные прутья кровати. Не стоило мне сюда приезжать. На фронте я был равнодушен и часто без надежды, но уже не смогу быть таким. Я был солдатом, а теперь я лишь боль о себе, о матери, обо всем, что так безотрадно и бесконечно. Не стоило мне вообще ехать в отпуск.
Эти бараки на учебном полигоне я еще хорошо помню. Здесь Химмельштос воспитывал Тьядена. А вот знакомых почти никого; все поменялись, как обычно. Лишь очень немногих я мельком видел раньше.
Служебные обязанности я исполняю механически. Вечера почти всегда провожу в солдатском клубе, там разложены журналы, но я их не читаю; однако есть и фортепиано, на котором с удовольствием играю. Обслуга – две девицы, одна молоденькая.
Лагерь обнесен высоким проволочным забором. Если засидишься в солдатском клубе допоздна, надо иметь пропуск. Тот, кто находит общий язык с часовым, конечно, проскользнет и так.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


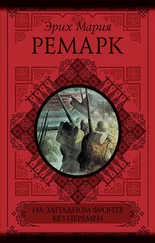

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



