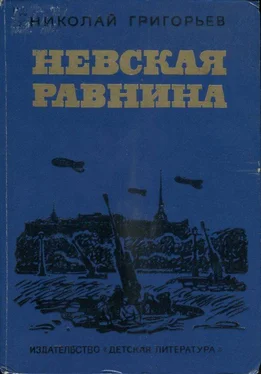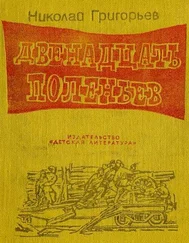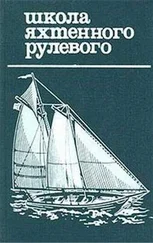Гибель человека, кинувшегося спасать его, командира, так потрясла Федорова, что все страхи отпали. Возникло непреодолимое желание бросить вызов смерти. И он, бесшабашно сдернув фуражку, балагуря выкрикнул:
— Тетка сказала: «Худо, Володя, придется — воротись домой». Айдате, ребята, к моей тетке на блины!
Хохот, лихой посвист были ответом. И с криком: «Ура, ломи фашистов! Смерть гадам!» — ринулись, кто смог, к лодкам.
Уцелевших лодок хватило, чтобы осуществить переправу.
Бой за боем, и люди сплотились вокруг своего командира. «Петрович, — уже ласкались к Федорову, — мы за тебя, как за отца родного… Не дадим в обиду и помереть не дадим!»
Зимой того же первого года войны Федоров был тяжело ранен. Врач Козик назначила его в эвакуацию из Ленинграда. Во взводе с Петровичем расставались как с родным человеком. Превозмогая страдания от пробитого разрывной пулей легкого, он приложил к губам гармошку, попытался что-то сыграть… Не вышло. Тогда он передал гармошку одному из бойцов, и тот по его просьбе сыграл «Катюшу».
Федорова увезли. А его взвод и при новом командире остался в батальоне одним из передовых.
Потребовала служба — и пришлось мне побывать в Ленинграде уже глухой зимой, в мороз. Снегу навалило столько, что шофер и я взяли в машину по лопате. Предусмотрительность оказалась не лишней: по дороге в город не раз приходилось разгребать снег, чтобы проехать.
Миновали Невскую заставу — а тут троллейбус в снегу. Одна штанга с роликом торчит кверху, не находя проводов, другая упала концом в сугроб. Когда поехали дальше, я оглянулся — и показалось мне, что не троллейбус, а что-то живое заламывает в горести руки…
Редко где встречались прохожие. Промерзшие квартиры и небывало морозная зима вынуждали людей так кутаться, что не поймешь, кто это медлительно вышагивает — мужчина или женщина: с виду — что-то бесформенное.
Попали на Невский. В оживленнейшем когда-то квартале проспекта, между колоннадой Казанского собора и Домом книги, на пустынной мостовой теснились люди — взрослые и дети — с кувшинами, чайниками, бидонами и бидончиками в руках. Оказывается, нашелся умелый человек и вывел из-под земли наружу водоразборную колонку. Колонка обросла уже ледяной горкой: не каждому ведь под силу унести воду — иной тут же драгоценную влагу и расплескает…
Гнетущий след остался на душе от этой поездки.
И вдруг — автобус… Живая, шумящая мотором машина — и где же, у нас на фронте! Не хватит слов, чтобы передать бурный всплеск охватившего бойцов восторга. Каждый норовил прикоснуться к машине, словно желая удостовериться — не ошибается ли глаз. Изголодавшемуся человеку чего только ни примерещится!
— Автобус… автобус! — даже слово-то выговаривали с наслаждением. — И целехонький, ребята, и на полном ходу, черт его дери!
А на автобусе и номер сохранился, и маршрут, которым он когда-то возил набивавшихся в него ленинградцев.
Вспомнился всем довоенный город, и таким теплом повеяло на каждого из нас от машины — пришельца из прошлой мирной жизни, что невозможно было не прослезиться…
Автобус этот снарядили городские власти для вывоза раненых, которых скапливалось все больше и больше.
К декабрю сорок первого сгустился мрак блокады. Казалось, не столько вражеский огонь, сколько голод косит бойцов. Сделавшись кадровым, батальон помолодел, но и молодые бойцы при свете дня выглядели старичками. Никто не побежит, не схватится бороться, не услышишь в батальоне и громкого голоса.
Ждали ледовой дороги через Ладожское озеро. Рассчитали, что дорогу можно открыть при толщине льда минимум в двести миллиметров. Но медленно, очень медленно нарастал лед. Ждать было мучительно, ведь голод что ни день уносил жертвы… И не дождались двухсот — рискнули, пустили к Ленинграду для пробы конный обоз при ста восьмидесяти. На дровнях лишь по два мешка продуктов. Возчик шагал рядом. А впереди тридцатикилометровый путь, над которым рыскают фашистские самолеты. И не весь караван достиг Ленинграда… Через два дня по следу лошадей покатили едва загруженные грузовики, и все же несколько машин затонуло. Доставили на автомобилях в город тридцать три тонны продуктов, почти в двадцать раз меньше суточного голодного пайка тех дней…
Прошло немало времени, пока зимний путь через Ладогу обрел право называться Ледовой дорогой жизни.
Мрачные дни декабря… Включишь в батальоне радиоприемник, и, на какую бы волну ни настроился, в эфире одно: горланят, беснуются фашистские мужские дуэты, трио, квартеты, солдатские хоры. Долбят на разные лады: «Капут Москве! Капут большевикам! Капут России!..»
Читать дальше