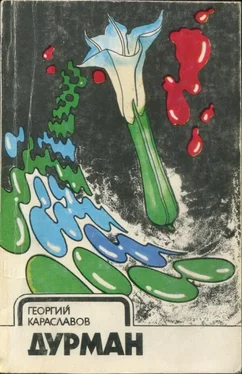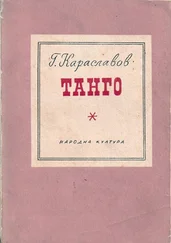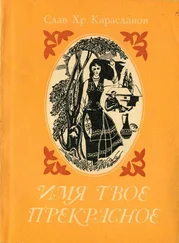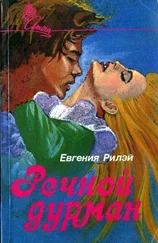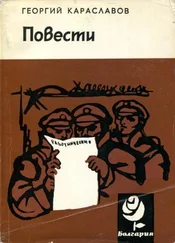— Крыстинка, Тодоровых дочь.
Старая вздохнула: девка была горбатая и одну ногу волочила.
Иван снова начал домой поздно возвращаться, и старая начала его караулить. Устроила настоящую слежку, ни на шаг от себя не отпускала. Когда у ворот появлялся кто из друзей — приятелей, она семенила к калитке и еще издали кричала:
— Зачем он тебе? Чего надо? Нету его, делом занят!
Однажды Ивана спросил Илия Вылюолов.
— Нету его! — и захлопнула дверь прямо у него перед носом.
Иван иногда слышал, что его спрашивают, и помалкивал. Так постепенно привык дома сидеть, совсем от людей отошел. То в доме, то на дворе копался, тут подобьет, там подправит, а то и просто без толку кружит на гумне, какое бы заделье найти. В хлеву или на сеновале. Старые плуги выправил, колеса подогнал, ярма почистил. И никого видеть не хотелось, ни с кем в разговоры вступать. Ему все казалось, что старые друзья начнут смеяться над ним, еще попреков не оберешься, какой, дескать, ты мужик, раз тобой бабы вертят. А старуха-мать, зорко наблюдая за ним, сердцем радовалась, когда видела, что ему не хочется из дому выходить. „Вот это другой разговор, пусть делом занимается, все польза будет, вместо того чтобы с шалопаями по деревне шляться…“
Иван заметил, что мать переменилась к Тошке, и это его радовало. Но мысли о разделе из головы не выходили. И как ни силился, все не мог преодолеть неприязни к невестке. Обида засела у него колом в голове, навалилась на сердце, слова лишила. Он боялся, что, если заговорит с ней, голос его выдаст. Дома стало тише, спокойнее, за столом пошли разговоры, нет-нет да и улыбка на лицах мелькнет. Иван начал играть с племянником: то догонялки затеет, то бороться с ним начнет. Тошка понемногу успокоилась. Старая стала из дому выходить, ее одну оставлять в тишине да спокойствии. Иногда даже идти погулять ей посоветует, в гости к кому-нибудь. Тошка от радости себя не чуяла. Но все же иногда нет-нет да и кольнет сердце тревога, в голосе старухи вдруг что-то холодное, резкое почудится, затаенное и недоброе. Но ей не хотелось верить, что все по-старому идет, хотя смутная тревога ее не оставляла. Особенно, когда свекровь с ней говорит, а сама в глаза не смотрит. В пол уставится, лицо в черный платок прячет. И все одна норовит остаться, скрыться куда-нибудь и часами не показываться. А то начнет по двору бродить, вдоль плетня, сучья да валежник в фартук собирать. Принесет в дом и около очага высыпет.
— Да не собирай ты этот мусор к огню близко. Пожар сделаешь, сгорим, как мыши, — сердился Иван.
Старая стала ссыпать около колоды, на которой Иван дрова колол.
— Для растопки пригодится, — словно оправдываясь, бормотала старая, хотя никто ее не спрашивал.
Два-три раза Тошка слышала, как она что-то себе под нос бормочет, словно с кем-то разговаривает. А как-то раз смотрит Тошка: вроде задремала, рука с веретеном повисла. „Уснула“, — решила Тошка и осторожно подошла к ней.
— Мам, а мам! Да ты ложись, отдохни… Я сейчас тюфяк принесу, — тихонько начала Тошка. Старуха вздрогнула, вскинула голову, словно ее врасплох застали. Виновато заозиралась. Закрутила веретено.
— Не надо, это я так… Какой сейчас сон, ночью высплюсь…
В хорошую погоду посылала она Пете на улицу, поиграть с ребятишками:
— Иди, милый, поиграй, побегай, нечего дома сидеть…
Пете с радостью мчался на улицу, а она, зажав прялку под мышкой, вертела веретено, прохаживаясь около дворов, вдоль дувалов, плетней и заборов, высматривая что-то у себя под ногами. Там, среди репьев, колючек и зарослей дурмана, копались свиньи, копошились куры, разрывая мусор, и спасались в тени от досадных мух ленивые тощие собаки.
Старухе нужны были темно-зеленые стебли дурмана, она жадно всматривалась в сухие колючие головки с семенами: поспела ли в них желанная отрава? Спелые зернышки сильнее подействуют… Она не знала, так это или не так, но нутром чувствовала… Как только поспеют, соберет она горсточку, почистит и спрячет в сундуке. Ну, а если кто увидит, как она семена собирает? Что подумают? Но тут же себя успокаивала: „Никто ничего не заметит, ну а если даже и заметят, что такого? Да ведь дурман и от одышки пьют, и против болей в пояснице употребляют, и для глаз — средство…“ „Да что это я? — упрекала она сама себя, — никто ничего не увидит!“ — но все же на всякий случай осторожно осматривалась кругом. Чем черт не шутит… Но улица была пустынна, где-то вдалеке перед воротами сидели старухи, греясь на солнце, одни с прялками под мышкой, другие вязали носки.
Читать дальше