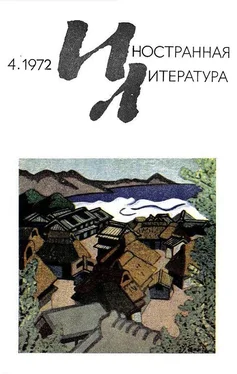— Сегодня нет. Я ставлю машину в гараж.
— Тогда одолжи мне куртку, я верну ее завтра после обеда.
* * *
С курткой на плече, он стоял и смотрел вслед отъезжавшей машине. Потом двинулся в путь, но, сделав несколько шагов, остановился; ноги поневоле несли его домой. Теперь он шел и все время думал о том, когда и куда надо сворачивать.
Ощущение опасности не оставляло его, и ему приходилось делать над собой усилие, чтобы не оборачиваться. Он обогнал стайку глупо хихикавших девушек; одна из них что-то рассказывала и все время повторяла: «А он… а он…» Навстречу ему шла группа мужчин, и он смотрел на них как на приближавшихся врагов. Однако, поравнявшись с ним, они лишь посторонились и уступили ему дорогу.
«Со мной ничего не должно случиться; даже если ко мне привяжется какой-нибудь пьяница, я и пальцем не пошевелю. У меня пистолет, двадцать тысячных бумажек и чужая куртка. Лучше всего пойти в какую-нибудь гостиницу, запереться в номере и проспать до одиннадцати утра».
Но он не сделал этого. Так же как на войне в минуты опасности, в эту ночь он чувствовал себя сильнее и увереннее, когда над головой у него было открытое небо. Он не станет нигде запираться, а пойдет к Ванде. Посвистит под ее окном, в переулке, она #проснется, выглянет, и волосы у нее упадут на глаза. Она побудет с ним. Ванда его любит, он уверен в любви Ванды больше, чем в том, что у него в кармане лежат двадцать тысяч лир.
Пока он шел к Ванде, перед глазами его маячило лицо старика. Это было лицо иное, чем при жизни, совсем нормальное, как будто неожиданная смерть мгновенно стерла черты уродства, которые годами накладывала болезнь.
«Он так и будет у меня перед глазами всю неделю, — подумал Этторе. — Лица людей, умерших по-другому, я забывал довольно быстро».
Вот и переулок Ванды. Его освещал один только фонарь, как раз на высоте Вандиного окна, и ходить тут надо было очень осторожно, потому что мостовая была усеяна отбросами, выкинутыми из окон; к тому же сюда приходили облегчиться все пьяницы из ближайших трактиров.
Ему показалось, когда он подходил, что окно Ванды освещено, но это был лишь отблеск фонаря. Он стал под окном. Комната Ванды была на втором этаже, как раз над шорной мастерской отца, окно выходило на узенький балкончик с чугунными перилами.
Он подумал: «Она станет меня расспрашивать. Надо будет как-нибудь отвлечь ее». И негромко свистнул. Немного погодя — опять.
Ванда зажгла свет, потом погасила. Ему показалось, что он слышит, как звякнули пружины ее кровати.
Он увидел ее за стеклом. Лицо ее было обращено в глубь комнаты, потом она открыла окно и, отбрасывая упавшие на глаза волосы, сказала:
— Ты с ума сошел — разве можно свистеть! Отец услышит. Что это у тебя под мышкой?
— Не устраивай мне допроса, — огрызнулся он. И тут же добавил: — Это кожаная куртка, шоферская. Ты спала уже?
Но она снова спросила:
— Ты работаешь на грузовике?
— Да, с Бьянко.
— С каких пор?
— Со вчерашнего дня.
— Я не знала, что ты умеешь водить машину.
— На войне научился.
Она подумала с минуту, потом заметила:
— Так, значит, ты не пошел на шоколадную фабрику…
— Хватит!
Откинув голову, она вздохнула и спросила:
— Ты зачем пришел?
— Тебе неприятно?
— Приятно, как и тебе. Зачем пришел?
— Повидать тебя.
— Ты меня любишь?
— Не говори глупостей.
— Тогда я ухожу. — Она обиделась. — Спокойной ночи.
— Останься.
— Мне холодно.
— Да ведь совсем тепло.
— Я же в одной рубашке.
Немного смягчившись, Этторе попросил:
— Побудь еще немного со мной.
— Зачем?
— Так. Выйди на балкон. Я хочу видеть тебя всю.
— Там будет еще холоднее.
— Нет! Я хочу видеть тебя всю.
Она покачала головой и не двинулась с места. У него стало злое лицо.
— Выйди на балкон!
— Не злись!
— Делай, что тебе говорят!
Ванда вышла на балкон и облокотилась на перила.
— Выпрямись.
Она послушалась. Теперь он видел ее всю, заключенную, словно в футляр, в узкую длинную ночную сорочку из легкой материи. Но ему не было смешно; он знал, что нелепое облачение скрывает нечто, для него очень значительное.
Переступив с ноги на ногу, Этторе потребовал:
— Покажись.
— Что?
— Приподними.
Она отрицательно покачала головой.
Он пришел в ярость. Больше всего его выводили из себя как раз те, кто его любил, — мать, а теперь Ванда. Даже Пальмо не вызывал в нем такого бешенства. Он почувствовал, как у него руку сводит от желания выхватить пистолет. Он готов был пригрозить ей оружием.
Читать дальше