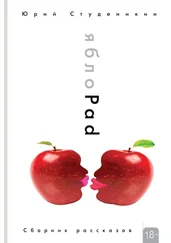Дед молча кивнул, подтянул сползшие носки и вышел.
Мужчины ели плохо, с явной неохотой. Лениво работали ложками, а потом одновременно отставили миски. Кисель пил только бородатый Евстифеев — пил осторожно, боясь замазать свою аккуратно подстриженную бороду, за которой ухаживал и которой гордился. Буровой мастер Захар Иванович Чусовитин вытер губы тыльной стороной ладони, посопел и первым вылез из-за стола.
— Спасибо, наелся, — сказал он, стараясь глядеть мимо поварихи, которая сердито, со стуком и чваканьем, собирала грязные миски одну в одну.
— Где же, — обиженно отозвалась она. — Совсем ничего не кушаете. Уж и не знаю, что и готовить-то для вас. Уволюсь я, — тяжко вздохнула она. — Раз не подхожу я вам, угодить не умею…
Захар Иванович почувствовал себя виноватым.
— Ну-ну, — примирительно сказал он, трогая себя за щеку и словно проверяя этим, не отросла ли уже сбритая утром щетина. — Ты это брось — ныть. Настроение у людей, сама знаешь… А тут табак кончился. До еды, а? Неудача у нас, а ты тут под руку ноешь. Зуда!
Повариха поджала губы и, унося с собой миски, удалилась за перегородку. Евстифеев допил кисель и ощупью исследовал, не замаралась ли борода.
— Захар Иваныч, — вкрадчиво сказал он, — товарищ Чусовитин. Может, все же примем по одной, а? По чуть-чуть, с вашего разрешения?
— Нет, — твердо ответил Захар Иванович. — Сегодня у нас не выходной, — он покосился на отрывной календарь, прибитый над столом, — праздника тоже нету. И не проси! Это ведь что получится? Развал трудовой дисциплины, вот что! Разве хорошо?
— Плохо, — с готовностью согласился Евстифеев. — Что ж тут хорошего! И все-таки, а, Захар Иваныч? По грамульке? А больше — ни-ни! Скучно ведь…
— Не проси, — коротко отказал буровой мастер. — Раз сказано тебе, значит, все. Вот Вениамин сигареток принесет, тогда и повеселеем. «Беломору», я знаю, у Васьки нет. А хорошо б сейчас ленинградского, фабрики Урицкого. А? — Он прикрыл глаза и вздохнул. — Это раз собрали, значит, директоров табачных фабрик на совещание. В повестке дня один вопрос — повышение качества. Ну, у директора фабрики Урицкого, значит, спрашивают: «Как вы ставите свою продукцию — низко или высоко?» А он встал и говорит: «Об этом пусть другие присутствующие директора скажут. Они все поголовно наш «Беломор» курят». Ну, тем, конечно, стыдно стало. Вот такие дела!
— Я такую историю тоже слышал, — усмехнулся Евстифеев. — Но про другого директора — ростовского, донской фабрики… Что ж, раз так, — поднялся он, — пойду еще кисельку садану. И тебе, Захар Иваныч, советую. Тоже все-таки напиток. — И ушел за перегородку, прихватив свою кружку со стола.
Захар Иванович, не зная, чем занять себя, выглянул в оконце. «Дождик будет, — подумал он. — А надоел. Скорей бы уж зима стала. Подвоз бы начался, жизнь бы сразу оживилась…» Он со вздохом выпрямился и потянулся так, что затрещали кости. Из-за перегородки, испуганно оглядываясь назад, вышел Евстифеев. Он был растерян и балансировал руками так, будто шел не по полу, а по проволоке.
— Плачет, — шепотом сообщил он. — Иди, Захар Иваныч, успокаивай. Ну вот такие слезы! — Он показал собственный ноготь и сам с удивлением поглядел на него. — Даже страшно…
Захар Иванович засопел, отстранил Евстифеева и прошел за перегородку. Повариха, сцепив пальцы на животе, сидела на своей кровати и беззвучно плакала, раскачиваясь вперед-назад, словно мусульманин на молитве. Слезы ее действительно казались огромными. Захар Иванович остановился перед ней, не зная, куда девать руки.
— Маша, ну что ты, Маша? — упавшим голосом, просительно забормотал он. — Что ты?.. Ну, успокойся, я тебя прошу, успокойся…
Повариха тряхнула головой и заревела еще безутешней, в голос. Захар Иванович присел рядом с ней, осторожно обнял ее за плечи и почувствовал, как сотрясается ее дородное, жаркое тело.
— Давай уедем отсюда, Захар, — всхлипнула повариха и погладила обнимавшую ее руку. — В татары поедем или еще куда… Там тоже есть чего бурить, без работы не останешься. И я при тебе буду. — Она вытерла глаза кулаком. — Поедем, Захарушка. Не могу я тут. Тяжко мне, неуютно. Места я себе найти не могу.
Захар Иванович успокаивал ее, ласково и молча гладил ее плечи, а сам, напрягаясь мучительно, прислушивался к тому, что происходит за перегородкой. «Ушел Евстифеев или толчется? — лихорадочно соображал он. — Дверь вроде хлопала… Или нет? Слушает, не иначе! А чего услышать хочет? И так все ясно. Скоро и узаконим, и нечего.?. Ладно, черт с ним! Пускай слушает, ежели охота».
Читать дальше