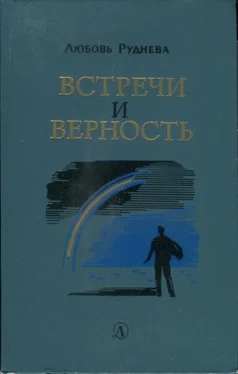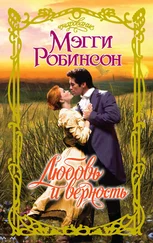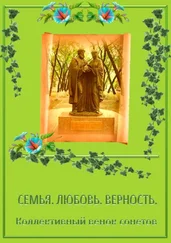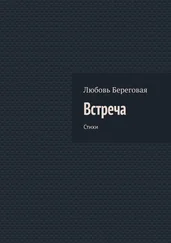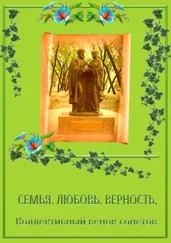— Какая это вам ракета? — крикнул он. — Да это ж метеор, болидом называется. А вы с паникой к бойцам: «Окружают!»
Командиры ворчат, возражают, но Плясунков опять повышает голос:
— Умирает, значит, звезда, — и ругнулся крепко, — а вы раскудахтались. Небо ж вам весть гонит самым курьерским манером. Может, среди звезд тоже революция, — засмеялся своей догадке Плясунков, и сразу пропало у него все зло. — Оно и большую звезду не жалеет, вас приветствует. А вы — «ракета!». А еще бывалые солдаты, звезду от ракеты не отличили.
И когда командиры поспешно разъехались, чтобы разъяснить оторопевшим бойцам, что произошло в небе, Плясунков продолжал говорить вслух:
— Звезду, даже падающую, понимать надо.
Уже исчез болид, мы, не без смущения, продолжали свой путь за Плясунковым.
— Вот если не вернусь от Самары, кто Николашку моего научит, чтобы войну со звездой не спутал?
И, немного гордясь, Иван Михайлович, понимая, что я прислушиваюсь к нему, как будто между прочим, прибавил:
— А я их знаю, что Орион созвездие, что ковш Большой Медведицы; или какую Венеру от Марса всегда отличу: Венера ярче, Марс пронзительнее. И каждая имеет свое место и свое время, например утренняя звезда.
И совсем тихо докончил свою мысль, — наверное, долго блуждала она по степи и далеко от тех дел, к которым мы приближались:
— Звезда, хоть и прохладный свет имеет, может понадобиться для тепла. Когда очень соскучишься по Николашке, она вместо почтальона. Знаю, я гляжу на нее отсюда, из-под Самары, а Николашка с Анютой — из Сулака.
И опять, видно, Плясунков возвращался душой к сыну, хотел соединить он степь вокруг нас с маленьким жильцом далекой в ту ночь заволжской стороны — Сулака.
* * *
А уж в году двадцатом, после Уральска и Оренбурга, одолевал Плясунков банды. Погаными грибами вырастали бандитские стайки. Отрава от них текла по селам: белогвардейская, анархистская.
Стоило заглянуть Ивану Михайловичу в родной Сулак, обнять мальчонку — и усталость с него как рукой снимало, а ведь был он уже весь переконтуженный, раненый.
Как-то привез он сына в Пугачев; заведено было — в городе стоянка его всегда в моем доме. Встал я рано утром, вошел в соседнюю комнатушку — сидит Плясунков с Колькой у окна, что-то вырисовывает на бумаге.
Тихо, чтобы не помешать, заглянул я через плечо Ивана Михайловича, вижу: на бумаге китаец, знакомый такой. Треугольная шапка соломенная, глаза прямыми линиями нарисованы, через плечо коромысло, а подвешены к нему не ведра — тюки, китайцы часто носили тяжести на коромыслах. У нас ведь в первую войну много китайцев работало — на железных дорогах, в портах. Приезжали целыми артелями со своими подлыми старшинками. Те похлеще наших подрядчиков пот из них жали.
Потом, вижу, рисует Иван точно такого же китайца, но уже в ушанке. Одно ухо ушаночное опущено, другое, как у сторожевого пса, поднято. У китайца в руках винтовка, а на ушанке звезда в пять лучей распускается.
— Видал такого? — спрашивает Плясунков у сына.
Рядом с китайцем Плясунков пристраивает киргизенка с верблюжонком, и у киргизенка винтовка и шапка с пятиконечной. А рядом мадьяр в высокой шапке, поляк в конфедератке, чех в расшитой жилетке, и у всех на головном уборе звезда.
— Ты, — говорит Плясунков, — выучи всех этих людей, Николашка. Они с твоим отцом, что значит командиром Плясунковым, и с Василием Чапаевым неразлучно вместе воевали… Вот китаец, — Плясунков тронул карандашом своего, нарисованного, — шел, ехал издалека-далёка, не с Волги-реки, а от самой Желтой, горячей слезами воды. Увидел: мы за ружье против помещиков, он с нами. Мы против заводчика или какого банкира, он с нами.
Плясунков отодвинул в сторону бумагу и опять про свое:
— Ел китаец Ван мало, надевал на себя и того меньше, ничего себе сроду не выгадывал. И далеко ему было пробираться до своей китайской стены и реки; кладет он жизнь за сибирскую реку, за уральскую гору, за степь нашу заволжскую. Свою единую жизнь Ван отдает. Говорит Ван мало, только если очень жмут нас, скажет нам для бодрости:
«Гэмин хао! Революция — это хорошо! Чапай хао!»
Ты, Николашка, пойми: Ван это просто по-китайски Ваня. Значит, китаец Ван со звездой тот же Ваня Плясунков, только китайский.
Так, на свой лад, рассказывал революцию Плясунков, а мальчонка все просил его:
— Еще расскажи мне сказку.
После того сын только еще один раз свиделся с отцом, да не так, как оба они ожидали.
Неподалеку от Ртищева случилась беда. Заскочил Иван Михайлович, не то с одним ординарцем, не то с головным отрядом, в расположение банды Попова. Долго отстреливался, а подмога не подоспела. То ли он последнюю пулю всадил в себя, и враги его мертвого рубили, то ли они посекли его насмерть, одно точно известно: рубили и мертвого белые звери. Погиб на чужих глазах наш единственный Плясунков.
Читать дальше