– Мне тоже показали эту женщину, – сказал дядя Кюхейлан. – Думаю, после твоего допроса. Часы уже были раздавлены, осколки стекла и металлические детали валялись по всему полу.
– Это уже вторая смерть, которую мне довелось здесь увидеть, – проговорил я.
Какой смысл в том, что часы женщины продолжали показывать правильное время после ее смерти? Вот о чем мне хотелось спросить. Или вот еще о чем: какой смысл в том, что мы терпим здесь муки, если в городе наверху ничего об этом не знают? Когда первые люди решили возвести Вавилонскую башню, Бог пресек эту попытку, смешав их языки так, что они разучились понимать друг друга. Но что толку? Ненасытный человек все равно подчинил себе и землю, и небо, построил не одну, а тысячи башен, пронзающих небосвод. Когда здания принялись расти в высоту, человек заметил, что Бога больше нет, и уже не искал его. Создавая города запутаннее всех муравьиных троп, он, человек, смешал все языки и расы. Стал жить так, будто никогда не умрет. И если возникнет надобность в новом Боге, то человек – лучший кандидат на его место. Чем больше росла сила человека, тем длиннее становилась его тень, и, глядя на нее, он забыл, что такое добро. Он сам не замечал, что делает. Добро он заменил правдой, а правду – балансом прибылей и убытков. Воспоминания о первом огне, первом слове и первом поцелуе стерлись из его памяти. Осталась только боль, напоминающая человеку о добре. Он попытался заглушить ее обезболивающими лекарствами. Мы здесь, в подземелье, мучаясь от боли, больше размышляли о том, что такое добро. Но я не мог понять, какой смысл в нашей боли, если на нее наплевать тем, кто живет в городе наверху?
– Демиртай, – нарушил молчание Доктор, – давай не будем говорить о смерти. Поговорим лучше о той насыщенной жизни, что идет наверху. Хоть нас там и нет, Стамбул остается цветущим, шумным городом. Мысль об этом утешает, правда?
Я не ответил.
Дядя Кюхейлан посмотрел на нас, понял, что мы ждем какого-то слова от него, и тихим, спокойным голосом произнес:
– У нас дома на стене висел ковер с оленем. Я расскажу вам о нем. Однажды мой отец, указав на этот ковер, спросил: «Сможете ли вы полюбить настоящего оленя так, как любите этого?» Почему-то мне показалось странным, как эти два слова – «настоящий» и «олень» – прозвучали вместе. Я сидел у окна. Был поздний вечер. На небе горели звезды, внизу виднелись горы, в горах жили олени. Отец посмотрел на меня так, словно увидел в моих глазах и звезды, и горы, и оленей, и поведал мне историю о печальном юноше, жившем в Стамбуле. Этот юноша влюбился в женщину, увидев ее портрет, и жил лишь мечтой о ней. Однако, встретившись наконец с предметом своих мечтаний, он взглянул на него один раз и отвернулся – больше ему смотреть не хотелось. «Я люблю женщину на портрете, – сказал он, – а настоящая не вызывает у меня никаких чувств». Сердце юноши питалось не реальностью, а мечтой. Странная любовь… Или странный человек? Отец сказал, что стамбульцам свойственно именно такое состояние духа. Виды Стамбула, висящие на стенах, им милее улиц, по которым они ходят каждый день, мокрые от дождя крыши и чайные под открытым небом на набережной. Они пьют ракы, рассказывают легенды, а потом смотрят на украшающие стены изображения и вздыхают. Им кажется, что они живут в каком-то другом городе. Совсем рядом текут воды Босфора, спешат по волнам пароходы, машут крыльями чайки. Мальчишки разводят под мостом костер и спорят, пытаясь угадать модель машины по звуку мотора; рабочие ночной смены слушают жалобные песни. На лицевой стороне картин, развешенных в домах, кафе и учреждениях, изображен видимый облик Стамбула, а на задней – другой, невидимый. Все, словно околдованные, смотрят на картины, а потом грустно ложатся спать. Подобно тому как их сутки разделены на сон и бодрствование, надвое они делят и время.
В голове у дяди Кюхейлана скопилось столько слов, что историй у него имелось больше, чем улиц в Стамбуле.
– Вот как стамбульцы делят время, – продолжал он, разведя руки в стороны. – Они полагают, что подлинный Стамбул – город, принадлежащий прошлому. В прошлом этот усталый город жил полной, яркой жизнью, был столицей великолепной империи, а теперь погрузился в глубокий сон и, может быть, никогда уже больше не проснется. Его прекрасные легенды постигла та же судьба, что и его прекрасные особняки: они превратились в руины. Верящие в это стамбульцы поклоняются прошлому, читают романы о былых временах. Но есть ли иное время, кроме настоящего? Разве не в этом городе слились воедино все времена? Такого рода вопросы, если они и проникают в сознание, стамбульцы предпочитают забывать. Они смотрят не на то, что рядом, а вдаль. Забвение помогает им терпеть боль, но они не замечают, что забыли и о настоящем времени. Жизнь и смерть для них – одно и то же, прошлое бесконечно. Они безнадежно влюблены в далекие эпохи, а город, в котором просыпаются каждое утро, презирают. Громоздят бетон на бетон, возводят повсюду ничем друг от друга не отличающиеся купола. Сносят, ломают, а потом, утомившись, приходят домой и ложатся спать под картиной с видом прекрасного Стамбула. – Дядя Кюхейлан повернулся ко мне: – Слушаешь, Демиртай? Я любил оленя, изображенного на ковре, но это не мешало мне полюбить оленей, живущих в горах. Мне нравились рассказы о прошлом Стамбула, но нравится и Стамбул теперешний. Я вот что понял: стамбульцы хотя и любят свой город, но не чувствуют к нему нежности. Любовь без нежности превращает их в эгоистов. И они не ощущают этой ущербности, подобно людям, которые тиранят любимых, хотя и обожают их. Они думают, что счастливые времена навсегда ушли, и не верят в Стамбул.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


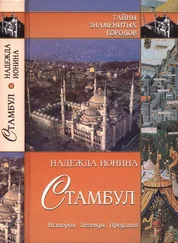

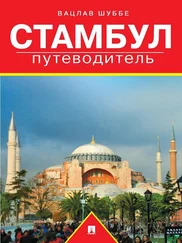

![Эсмира Исмаилова - На берегах Босфора [Стамбул в рецептах, историях и криках чаек] [litres]](/books/384961/esmira-ismailova-na-beregah-bosfora-stambul-v-rec-thumb.webp)





