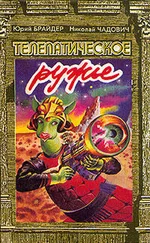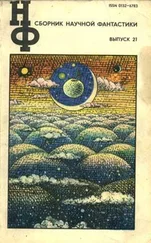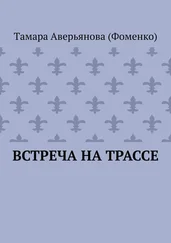— Заходь, заходь… Заходите! С делами пошабашили, заходите, под яблоней посидим.
Супруга Кудя, Евдокия Сергеевна, привітала хлопця Микиту, сокрушалась, что исхудал, ученье заело; двойняшек, Сашу и Машу, привела в раж его борода, Саша норовил ухватить ее всю целиком, Маша ловчилась выщипать по волосинке; невестка Кудей, Людмила, спешила поделиться новостями:
— Слыхали, Никита Георгиевич, весь наш участок до яра для расширения завода забирают, а нас, Кудей, под корень!..
— Ну, Кудей под корень немыслимо, Куди вечны.
— Нам уже ордера выдали… Приглашаем вас на прощанье с нашим затишком, скажем о дне расставания.
Тени легли в саду, на траве, на дорожках, сгустились под яблоней.
— Ну, что замерли? — насупился старый Кудь. — Вот не переношу… Михайло, хоть ты нарушь молчанку, — обратился он к тоненькому, подвижному пареньку, занозистому: глаза темно-карие до черноты, то неспокойны, то останавливаются неподвижно; то девически нежный взгляд, то цепкий и пристальный. — Прочитай свою поэму, мы все послушаем; познакомься, Никита, это наш Миша из многотиражки, Михайло Тарасович Чуб. Поэму про коленчатый вал сочинил.
— Я не сочиняю, Семен Терентьевич, я отобразил действительность.
— А ты, Миша, читай, читай; ты читай, а мы посмотрим насчет действительности.
Читал Миша хорошо, Семен Терентьевич отметил — пристрастно, убежденно, по всему видно было — старый Кудь благоволил к пареньку.
В вечерний час, в свежести близких перелесков, зеленого дола стих особо душевно слушался.
— Убежденно прочел, убедительно, — хвалил Семен Терентьевич, но тут же сделал замечание по сути. — Однако опережаешь события, как всегда, опережаешь, нам с коленчатым еще потеть и потеть, три пота сойдет, а ты уже марши играешь.
— Это ж поэма, Семен Терентьевич, поэма, а не стенографический отчет, поэтическое видение, так будет, сами знаете. Надо видеть вещи в движении, если видеть в движении, то и протокол заседания можно поэтически осмыслить.
— О чем вы спорите? — нетерпеливо заговорила Людмила. — Стих молодой, задорный.
— Ну, с чувством, это верно, — согласился Семен Терентьевич, — тут ему наше спасибо, так и запишем. Молодец. Я всегда говорил, с парня выйдет толк. Однако… — Семен Терентьевич собирался с мыслями. — …Однако, упрямился он, — я слушал и думал: а сколько ж тому валу коленчатому поперек! Сколько всякому доброму делу палок и крутых горок на дороге. Которую тут поэму написать? Кого возблагодарить за добрые дела следует, а кому и жару всыпать! Что-то у нас жара цехового, рабочего поубавилось. Так ли уж гладенько, ладненько? Вот про что я думал, слушая твой хороший стих, Миша, Михайло Тарасович. Что было в гражданскую, в Отечественную? Идет война народная, священная война! Когда есть священное, никому не уступим, ни от чего не отступимся — такой наш человек. Как теперь каждый в цеху считает? Да и не только в цеху — кругом — ответственность! Ответственность общая. С каждого стребуется. Это сейчас каждому и у каждого главное. Будет это дело — с любым делом справимся!
— Я полностью согласен с отцом, — подхватил Павел. — Не знаю, можно ли, нужно ли всех привести к единомыслию. Но главенство нашего понимания справедливости должно быть; и должно быть от рождения, в крови и душе, от первого дня, а не потом — потом поздно!
Людмила не слушала ни свекра, ни мужа, тревожилась о своем:
— Заводу нужна новая площадь, ясно… Неужели рощу срубят? Вы должны знать, Никита Георгиевич.
— Я верю в добрые проекты, Людочка.
— Да, вы добрый, я знаю. Обстоятельства жесткие. Жалко, если рощу снесут.
— Это ее больное место, — придвинулся ближе к жене Павел. — Переживает. Она знает здесь каждую березку, жалеет, когда кору надрезают, собирая сок по весне, жалеет, словно раненых. Чувствительная, любит всякие трогательные истории, трогательные роли, тоскует по театру. А я прошу ее поберечься, пока окрепнет. И малыши у нас все-таки.
— Павел — мой наставник, — вздохнула Люда. — И прокурор. Деспот. Оберегая, угнетает. Он прав, безусловно, но и меня надо понять, с детства мечтала о театре, мысленно переиграла все роли. Даже мужские. Я не виновата, что мечталось о многом, а судилось так мало.
Заговорили о театре, Евдокия Сергеевна вспомнила о подружке по ремесленному училищу, ныне знаменитой артистке; осанистый литейщик из древнего рабочего рода рассказал о совершенном круизе, собственно о Лувре и Ла Скала; Людмила снова вернулась к своему театру, говорила о Чехове, театре Чехова, театре потрясения души.
Читать дальше