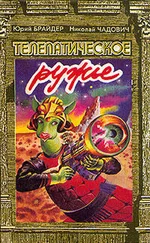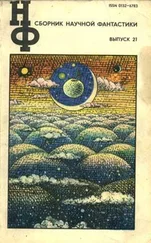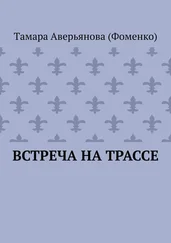— Мама! Мамочка! — взбежала на крыльцо Люба.
— Ты что, глупая? — взглянула в окно Матрена Васильевна.
— Ой, мама, так тихо у нас, аж перепугалася.
— Что ты, девочка, — вышла в сени мать. — Вечно ты с фантазиями. — Что так запоздала? Стали задерживаться. Лариска Таранкиных тоже к вечеру является.
— Ничего не задерживаемся. Яр залило, кругом обходим.
— То-то обходите, домой не приходите. Ступай в хату переодевайся да лицо под краном освежи, замученная! Растрепанная, не смотришь за собой, ты барышня, что ж ты так…
— Очень надо мне про это думать!
Однако мимоходом Любочка глянула в зеркало и потом долго плескалась под краном. Собрала просушенное белье с протянутых веревок, сложила в комнате на столе, подготовленном для глажки, вернулась во двор, принялась дорожку править от крыльца к калитке.
— Годи вже, знов ты с фантазиями, — окликнула Матрена Васильевна, — кому это надо, каждый день парад наводить. Давай обедать, сегодня с говядиной.
Обедали вдвоем, не дожидаясь отца. Раньше, бывало, Хома Пантелеймонович забегал на обед посидеть с домашними — ремонтный участок находился неподалеку, времени хватало, а теперь участок передвинули, да и сподручней было с дружками закусить прямо при дороге.
— Совсем от дома отбился, — жаловалась Матрена Васильевна.
— Вы бы ему литруху на стол выставили, — потупилась Люба, — зачуял бы.
— Любка!
— А что, неправду говорю?
— Подумай, про отца родного такое…
— А я думала-передумала, знаете, сколько про него думала, жалела. А теперь себя жалею, мама. Себя! Вас, Ольгу. Какая у нас жизнь?
— Любка… Любочка-девочка, да ты ж ничего не знаешь, да разве ж ты знаешь…
— Что знать, мама, что? Наслушалась про его знания: тот не такой, тот этакий, переэтакий, кругом виноватые. Слушала, верила. И слушать не хочу, и верить перестала.
Матрена Васильевна борщ разлила по тарелкам горячий, душистый, весенней благодатью насыщенный — стоят тарелки нетронутые; на столе зелень сочная, прямо с грядки, яркая, солнцем раскрашенная.
— Сострадать надо, дочечка!
— Сострадала уже, настрадалась, доброй была, ой такой уж доброй, выглядала, встречала, домой приводила, а теперь никакой моей доброты не хватает.
— Да что ж такое, — заволновалась Матрена Васильевна, — что ж это у нас каждый день беспросветный, куска спокойно не проглотишь… Да поешь ты без мыслей всяких, никогда по-людски не пообедаем. Повырастали!
— Повырастали, мама, верно говорите, — повырастали. Сама не заметила, как выросла. И о себе подумать приходится… Вам сколько было, когда замуж выдали?
— Не выдали, а сама вышла, самостоятельно.
— Шестнадцать вам было. Вот! В шестнадцать замужем, а я в шестнадцать ученица, школьница.
— О чем ты, Любочка? — испуганно глянула на дочь Матрена Васильевна.
— Да ни о чем, так просто, о жизни своей задумалась.
Обед закончили в молчании, Люба сложила столовый прибор в тарелку, отставила тарелки на край стола, смела крошки со стола:
— Спасибо, мама, за обед, очень вкусный. — Подхватила тарелки. — Что еще скажу вам, мама — поговорите с отцом. Мы так жить больше не можем. Перед людьми стыдно. Хоть в глаза не гляди, в школу не ходи. Никто ничего не скажет, а подумают. Поговорите с отцом, строго поговорите, раз и навсегда. А то ж вы его боитесь, теряетесь, а что получилось?
— Да как же я скажу ему? Разве послушает? Кто ему указ?
— Ну, как знаете, мама! — и вышла на кухню.
Матрена Васильевна кинулась было за ней, вернулась, принялась хозяйничать — то за уборку, то за стирку, ничего до ума не доведет, работа из рук валится. Пришлось Любочке работать за двоих, всюду непочатый край, ограда покосилась, крыша прохудилась, хоть молчи, хоть криком кричи, хоть песни пой. Люба, убирая двор, завела свою любимую:
Ой, на морі хвиля,
По долині роса,
Стороною дощик іде,
Стороною,
На мою роженьку червону.
— Ишь стараешься, Любаша, аж курева кружит! — донесся с улицы певучий голос. — С какой радости подобная суета?
— Время свободное выпало, Эльза Захаровна, а то ж некогда и некогда.
— Запустили усадьбу до невозможности, — всплыл над изгородью радужный зонтик, человека не видать, ни глаз, ни лица, только разные цвета переливаются. — Хоть бы людям каким половину усадьбы продали, может, попались бы путевые.
Эльза Захаровна приподнялась на носках:
— Ты что, девочка, вечно у тебя великий пост, смотреть жалко, не может родитель побеспокоиться. Смешно говорить. Асфальт варит! Да при асфальтовом котле одну, другую дачу обслужил, дорожки проложил, площадку залил, живая копейка в кармане.
Читать дальше