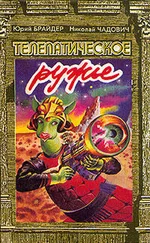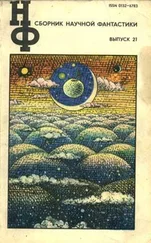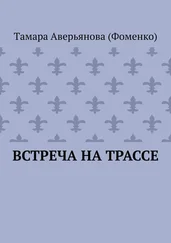— Из темноты это чередование освещенных объемов выглядит здорово! — остановился Никита.
— Ты топал по асфальту, как бегемот, — оборвал его Анатолий. — Пройдем еще раз по левадке. Заглянем на квартиру, может быть, Оленька уже вернулась.
— А все ж таки здорово из темноты… Декорация романтического спектакля!
— Повернем на пустырь…
— Смотри! — остановил друга Никита. — Оленька!
На открытой веранде ресторана, возвышавшейся над панелью проспекта, за ближним столиком сидела Оленька и ела мороженое. Отставленные стулья по бокам столика пустовали. Две вазочки по другую сторону стола были, очевидно, опустошены. Анатолий щурился, глаза не сразу привыкли к свету — Оленька сидела на веранде под лампионами, в уюте и покое, — предчувствия недоброго рассеялись, девочка нашлась…
Но Анатолию стало тревожно, тревожней, чем на пустыре.
— Пойдем посмотрим, что там на веранде.
Они пропустили машины, спешившие проскочить под мигнувшим желтым огнем, перебежали проспект в неположенном месте; поднимаясь по лестнице, приглядывались к тому, что творилось на веранде. Это был час, когда дневные посетители давно схлынули, а ночные завсегдатаи еще не появились. Оленька сидела в стороне, спиной к проспекту; наклонив вазочку, тщательно подбирала остатки мороженого. Против нее стояли две опустошенных вазочки — вторично и особо отметил Анатолий.
— Разрешите? — подошел он к столику; Никита приблизился с другой стороны.
Оленька не сводила глаз с остатков растаявшего мороженого.
— Ты здесь одна, Оленька?
Наконец она подняла глаза — ни удивленья, ни испуга.
— Ага. Они уже поуходили.
— Кто ушел, Оленька? — Анатолий неловко передвинул стул, так что дюралевые ножки заскрежетали по плитам. Никита бесшумно присел к столу.
— Эти, которые приходили, — разумные, серые глаза Оленьки скользнули по лицу Анатолия, остановились на бороде Никиты.
— Оленька, это твои знакомые? Знакомые Катерины Игнатьевны?
— Не, чужие…
— Та-ак, — протянул Анатолий, поглядывая на донышко вазочки — еще глоток пломбира — и Оленьку потянет домой, наступит молчанка, и то, что произошло, останется неузнанным, никто ничего от нее больше не добьется.
Никита нетерпеливо покосился на друга: девочка нашлась, жива-здорова, сама расскажет, если есть что рассказать.
— Как же ты очутилась здесь? — наклонился к Оленьке Анатолий.
— Мы ели мороженое.
— Но ты сказала, что это чужие!
Оленька поскребла еще немного ложкой, облизала ее и, вздохнув, положила на стол.
— Мамочка скоро вернется, — поднялась Олсиька. — Я пойду.
— Постой, послушай… — Анатолию вспомнился спор девчонок на крыльце одноэтажки. — А что Татка наговорила на тебя? Всем ребятам рассказывала…
— Татка дура. Набитая. Она наврала про тарелки. А я сказала, что никаких тарелок не было.
— И рассказала о шоколадном фургоне?
— А вы почем знаете?
— Эти дядьки расспрашивали тебя о фургоне? Что и кому в нем привезли? И ты сказала…
— Ничего не сказала. Я же не видела. Сначала думала, что видела, а потом забыла.
— А они, эти люди, что они?
— Одни сказал: «Молодец». А другой смеялся. Они веселые.
Оленька глянула на пустую вазочку.
— Я побегу, а то мамочка рассердится.
Девочка убежала.
После радужного неонового света темень пустыря казалась еще черней; таясь за бетонными плитами, дети играли в прятки; с дальних балконов их окликали настойчиво и безответно; увлеченные игрой, они ничего не видели, не слышали.
— Странная история, — не мог успокоиться Никита.
— Происшествие — всегда странная история.
— Неужели болтовня девочки могла кого-нибудь насторожить?
— Мы ведь насторожились, Никита! Кинулись расспрашивать, разыскивать… Зачем? Почему? Не в дремучем, вроде бы, лесу?
— Для нас она — Оленька, близкое, слабое существо.
— А для других она — Оленька, дочь женщины из торговой сети, работника точки на трассе.
Вдруг цепочкой, вдоль всей асфальтовой дорожки, вспыхнула электрика, белесая полоса пролегла через левадку.
— Нас выказано, нас выказано! — закричали ребята. — Мы не застуканы, нас фонари выказали! — Метнулись прятаться в другом месте.
— И мое здесь детство. И левадка была, без электрики, без нависших балконов. Игры на задворках и дорогах. Все выжили!
Когда они подходили к дому, в окне Катерины Игнатьевны погас оранжевый торшер. Не стали тревожить утомленную женщину, полагая, что утро вечера мудренее.
Читать дальше