Все здесь у бабы с дедом в такое воскресенье бывает не как у людей, а так, как не бывает, наверное, нигде и никогда. Ребятишки, что первоклассники, что пятиклассники, чуть на головах не ходят, кричат, резвятся и потеют от радости, поскольку дома на головах ходить им не разрешают, а здесь все позволено. Молодые женщины, сгруппировавшись на кухне будто бы для того, чтобы помогать бабе Васе, а на самом деле не оказывая ей никакой физической помощи, из кожи лезут вон, чтобы выглядеть друг перед другом как можно изящнее и осведомленнее в модах, кулинарии и в том, как, когда и что случилось с кем-нибудь из общих знакомых. Нет, они не сплетничают, боже упаси! Они просто задушевно рассказывают друг другу все, что видели или слышали за прошедшее время. Только и всего. Например, какое на ком видели платье, кто с кем поссорился и уже успел помириться, какие довелось попробовать приятные на вкус, простые в приготовлении и совершенно недорогие кушанья. Однако, в силу своей женственности, они не могут говорить тихо-мирно, терпеливо выслушивать друг друга до конца не могут и, спеша показать свои познания, галдят почем зря. А если кому-нибудь из них все же случается оказать бабе Васе помощь и отнести в соседнюю комнату какую ни то тарелку, делается это с таким изящным кошачьим проворством, что, промелькнув туда-обратно, можно всегда успеть "услышать, чем началась и чем кончилась не то что история, но даже фраза где-нибудь в середине этой истории, будь эта фраза хотя бы всего из трех-четырех слов.
Да и то сказать: квартирка у стариков Масловых маленькая, однокомнатная, хотя и входит в состав огромного двенадцатиэтажного дома, очень похожего по своей конфигурации на коробку из-под сигарет с фильтром, если поставить ее на попа. Таких домов много нынче понатыкали в разных концах столицы как в одиночку, так и целыми колониями.
Петр Кузьмич долго рыпался-ерепенился и не хотел сюда переезжать, потому что, мол, такой скороспелый дом свободно может так же поспешно треснуть-скособочиться или еще черт знает что выкинуть, но вся родня стала смеяться над ним, обвинять его в консерватизме, отсталости взглядов, в потере ощущения нового, даже называть его чуть ли не трусом, и он, еще немного покуражась для приличия, сдался, в конце концов дал на переезд свое согласие.
А ерепенился и рыпался он не потому, что боялся жить в тех неустойчивых и недолговечных с виду современных постройках, и не потому, что больно уж далеко из старой Москвы выперли его вместе с бабой, чуть не к черту на кулички, куда лет семь назад одни лишь Макар телят гонял, а потому, что до слез, до боли в сердце было жаль расставаться со своей Курской канавой, на которой он родился и прожил так много лет и домики которой, так тесно толпясь и приветливо поглядывая окошками, расположились, прижатые шоссе Энтузиастов к самому забору, к дымным и грохочущим прокатным и сталепроволочным цехам вот уж поистину родного Петру Кузьмичу "Серпа и молот".
Долго по соседству с ним прожил Петр Кузьмич. Так долго, что не только сам вырос-повзрослел, но и детей вырастил, у всех трех на свадьбах отгулял, и состарившись, на пенсию подался, И вот что еще интересно: до самой пенсии каждый божий день, не считая выходных и отпускных, стоял он когда в дневную, когда в ночную возле своего жаркого, огнедышащего, словно Змей Горыныч, мартена, и сквозняком несло на него, потного, в разбитые окна, а хоть бы тебе хны, никакая хворь к нему не приставала. Но как только получил пенсионную книжку, так — здравствуйте пожалуйста, — сразу, откуда ни возьмись, стенокардия появилась. Будто ее собес вместе с пенсионной книжкой незаметно подсунул. Да такая она яростная, эта стенокардия, стерва, получилась у Кузьмича, так она, мной раз почище бабы Васи, цепко и горько хватала старого сталевара за грудки, что только держись!
Ах ты Курская канава, родные кузьмичовские места! Все-то здесь было сердечно, без ехидства, запросто. Идешь, бывало, со смены, а со всех сторон:
— Привет Кузьмичу!
— Как смена прошла?
— Как жизнь, Кузьмич?
Только успевай раскланиваться, отвечать на сердечные приветствия.
Идет Кузьмич и видит: чувствуют люди, не какая-нибудь шушера, а сталевар, знаменитый бригадир Петр Кузьмич Маслов со смены устало топает домой. Идет со смены рабочий класс, и рабочий класс, повстречавшись, приветствует его. Куда, бывало, глазом ни кинь, везде знакомые все лица. Батюшки мои! Которые вместе с тобой выросли, которые на твоих глазах родились, на твоих глазах первую получку все на том же знаменитом "Серпе" получили, да женились, да… Ах ты мать честная, нечистая сила. И почему это он, старый дурак, поддался на уговоры, спасовал перед насмешками и съехал с этой благодатной канавы? Надо было заартачиться, упереться ногами в родной порог и дожить век там, где родился, откуда в школу пошел, куда первый свой заработок принес.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

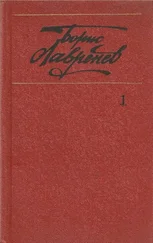
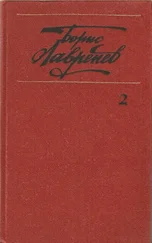




![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


