Вот поехали мы в Белоруссию, в Минск, осененные самыми радужными надеждами, и все у нас так славно складывалось, что и придумать вроде бы нельзя, а что в конце концов получилось? Почти срам. Почему — почти?
Да потому, что… Впрочем, так и быть, расскажу по порядку.
Минск в те предмайские теплые, солнечные дни 1946 года выглядел нисколько не лучше, чем тогда, когда мы с боями освобождали его от оккупантов и нашему 132-му пограничному полку за эти бои было дано право впредь называться Минским.
Минск был в развалинах. Кроме Варшавы, во всей Европе не было ни одной столицы, которая была бы так разрушена немецкими оккупантами, как столица Белоруссии. Вильгельм Кубе, рейхскомиссар Белоруссии во время оккупации, однажды цинично объяснил, почему это сделано.
"Крупные города Белорутении (то есть Белоруссии) — Минск, Витебск, Гомель, Могилев — превращены в развалины, — говорил Кубе. — Нет необходимости восстанавливать все эти города, так как город портит белорутина (то есть белоруса), потому что он привязан к земле".
Вот, оказывается, почему от всех зданий, после пребывания в Минске оккупантов, осталось менее одной трети. На Ленинской улице — вместо домов груды кирпича. Там, где раньше была гостиница "Европа", — покоробленный тротуар, а в него вдавлены, словно под прессом, осколки оконного стекла. Что же здесь происходило при немцах? Какие бушевали здесь пожары, если даже асфальт кипел и осколки лопнувших стекол шлепались в него, как в болотную жижу! Два года прошло, как город освобожден, а вновь отстроенные здания пока считают по пальцам: одно на Советской улице, одно на улице Карла Маркса. На Комсомольской стоит деревянный павильон. Это детский универмаг. Пленные немцы растаскивают завалы, складывают в кучи кирпич, расчищают площадки для новых зданий. В городе, если говорить военным языком, пока шли бои местного значения, а в тылу исподволь готовилась крупная операция, накапливались силы для широкого, решительного наступления. Вокруг Минска сооружались кирпичные, деревообделочные, гипсовые заводы, создано четыре лесных промысловых хозяйства, по республике разъехались вербовщики строителей. Для этих строителей на окраине города сооружаются одноквартирные и двухквартирные дома. И когда все вспомогательные производства будут подготовлены — многотысячная армия бетонщиков, плотников пойдет в последний и решительный бой. Я видел макет центральной части города. Там жилые коттеджи располагались среди парков и фруктовых садов.
А пока в городе отстроен и пущен хлебозавод, обувная фабрика приступила к производству дамской обуви, первые радиоприемники выпустил радиозавод, закончилось оборудование велосипедного завода. Началось строительство автомобильного и тракторного заводов.
Теперь даже не верится, что минские автотракторные заводы тогда только-только начинали строиться. Те самые прославленные теперь на весь мир заводы. Впрочем, что ж тут такого. Ведь прошло без малого четверть века с тех пор, как мы с Мишей теплыми предмайскими днями мотались из конца в конец по городу в "эмке", любезно предоставленной в наше распоряжение вторым секретарем ЦК Компартии Белоруссии профессором Тимофеем Сазоновичем Горбуновым.
На третий, наверное, день нашего пребывания в Минске мы рано утром явились в кабинет профессора. Надо было узнать, о ком, конкретно уже, посоветует он написать. Разговор должен был идти, разумеется, о знаменитых людях Белоруссии. А кто, если не профессор Горбунов, лучше всех знает этих людей?
— Ну, познакомились с городом? — спросил он, когда мы расселись возле его стола.
— Познакомились, — сказали мы.
И тут зазвонил одни из телефонов, стоявших на столе. Тимофей Сазонович снял трубку, послушал, нахмурился, озабоченно ответил кому-то:
— Ладно, хорошо, — взял другую трубку и уже властно приказал: — Мою машину к подъезду.
— Вот что, — уже стоя, проговорил он, прибирая на столе. — Прошу меня извинить. Я должен срочно уехать. — Он усмехнулся: — Француженки удрали. Если хотите, поехали со мной вдогонку.
И вот мы мчимся по шоссе в колымаге ЗИСа, и Тимофей Сазонович рассказывает, полуобернувшись к нам, в чем дело.
В Белоруссии гостит делегация французских женщин. Захотелось этим любопытным гостьям посмотреть, как живут после войны белорусские колхозники. А надо понимать, что лишь год прошел, как кончилась война и села Белоруссии, особенно вокруг Минска, очень пострадали от оккупантов. Показывать разрушенное село, бедный колхоз, разумеется, какой смысл? Было на примете и село богатое (фашисты пулей вылетели из него, даже самой малой амбарушки подпалить не успели), и колхоз в этом селе крепкий. Позвонили: так, мол, и так, примите французских гостей как следует, по-белорусски, покажите и расскажите, как живут колхозники. Еще вчера вечером было вроде бы все в порядке, а сегодня утром француженки вдруг заартачились: не хотим, мол, ехать туда, где все для нас приготовлено, а хотим ехать туда, где о нашем приезде и слыхом не слыхивали. Развернули карту минских окрестностей, ткнули пальчиками и приказали переводчице: везите нас вот сюда. И расселись по машинам. И уехали в колхоз "Новый шлях", где о их пребывании на белорусской земле действительно слыхом не слыхивали.
Читать дальше
![Борис Зубавин От рассвета до полудня [повести и рассказы] обложка книги](/books/404250/boris-zubavin-ot-rassveta-do-poludnya-povesti-i-ra-cover.webp)

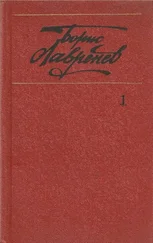
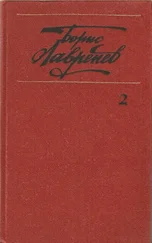
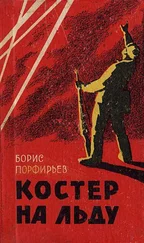

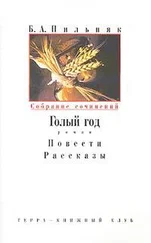

![Борис Сергуненков - Лесные сторожа [Повесть и рассказы]](/books/426961/boris-sergunenkov-lesnye-storozha-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/435557/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska-thumb.webp)


