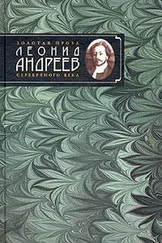Дружинин нарочно не откликался: хотелось побыть одному, полюбоваться природой без шумных и беспокойных свидетелей, помечтать.
Кругом был лес, беспорядочное нагромождение живого и мертвого дерева, как это бывает в тайге. Низом стлался кустарник, сухой и колючий, в кустах и высокой траве лежали крест-накрест колодины, кое-где превратившиеся в труху, конусы муравейников лепились к полусгнившим ломаным пням; выше белели березки, кривостволые, с редкой и блеклой листвой: им не хватало ни солнца, ни воздуха, потому что над ними возвышались сосны с шершавыми стволами и сомкнувшимися кронами. Рядом со смертью и захирением, выше ее — жизнь!
Павел Иванович залюбовался высокой сосной, что росла в окружении других, пониже, потоньше. Она была идеально прямой, без сучочка до самой вершины: прямая, вся в бронзовой чешуе, она походила на туго натянутую басовую струну. Налети ветерок, притронься, и она издаст этот бархатистый звук контрабаса.
— Павел Иванови-ич! — опять разнеслось по лесу.
— Ну, настойчива! — вслух сказал Дружинин, разрывая жесткие сети кустарника. Пошел прямо на голос, к стоявшей где-то возле дороги машине.
Чуть пересек ручей и поднялся на высотку, началась старая гарь. И виновником-то ее, наверно, был тоже созерцатель природы: развел костер да и не погасил; огонь прокрался по сушняку и спалил добрую сотню гектаров леса. Кой-где стояло дерево без хвои, без вершины, с опаленным комлем, в беспорядке валялись обгоревшие, обугленные стволы. Жуткой была бы эта картина, если бы не буйная зелень сосновой молоди, переросшей обгорелые пни, да не цветущий иван-чай, плотно прикрывший золу и угли, черное — розовым. Из густых зарослей иван-чая пахло медом.
Павел Иванович пригнул к себе гибкий стебель растения, подул на цветки. Между нежными, почти прозрачными лепестками обнажились тычинки и пестики, тоже нежные и прозрачные, тончайшей, ювелирной работы. Нет искусней гравера и художника, чем живая природа, нет и скульптора — в воображении Дружинина вновь возникла та, понравившаяся сосна — чудесней природы.
Под ногами хрустнули угли. Да, да, здесь было пожарище, полыхал, все уничтожая, огонь. Но о локти Дружинина, о колени шуршала хвоя соснячка, еще нежесткая, теплая. Обходя деревца, Павел Иванович задевал ладонями по вершинкам, гладил их, а самому казалось, что он среди детворы, идет и гладит по волосам ребятишек. И вдруг вспомнил Наташку — нашлась! Нашлась его дочка, выжила, скоро приедет сюда!..
Среди зеленого сосняка и цветущего иван-чая Дружинин присел на обгоревшую с обоих концов колодину и размечтался, как он встретит Наташку на станции, расцелует ее, боязливую, что-то лепечущую. "Погоди, погоди, — он поднес ко лбу руку, — да ей же пятнадцатый год!"
— Павел Иванов-и-ич! — уже совсем близко окликнула его Тамара.
Больше скрываться было неудобно, и Дружинин подал голос:
— Здесь я.
— А я вас ищу, ищу, с ума сойти можно.
Тамара шла, ломая цветущие заросли иван-чая и на ходу обрывая иголки с вершинок сосновой молоди. Не понравились Павлу Ивановичу эти ее жесты. И сама не нравилась, хотя и красива — правда, грубоваты черты лица, — и молода — двадцать шесть лет, — и нарядна в будень и праздник, даже подчеркнуто нарядна всегда, до глупости: едет в лес и надевает белое тонкое платье, туфли на каблуках-копытцах, будто на бал.
— Мы оба с папкой ждали, ждали и устали ждать, — сказала она, снимая с плеч газовую косынку и присаживаясь рядом с Дружининым.
— Пора ехать домой?
— Не знаю. Дело ваше.
— Пожалуй, пойдем. — Павел Иванович встал.
— Матушки мои! — ахнула Тамара, едва Дружинин сделал несколько шагов. — Замазалась чем-то горелым… И новый чулок порвала! — Бесцеремонно подвернув юбку, она принялась разглаживать на колене чулок. — Все из-за вас, — сказала она, взглянув исподлобья.
Павел Иванович невольно усмехнулся. Не пошел на пользу женщине фронт. Вот приятельница ее — фронтовичка — заезжала попутно, та выдержанней, умней. И опять подумал: пролезть через пекло войны и не запачкать даже локтей…
Тамара шла сзади, потом рядом, сотом впереди. Ухватится за гибкую ветку, потянет к себе и отпустит — лети, выбивай глаза бессердечному человеку. Дружинин сначала защищался рукой, наконец приотстал: и впрямь выбьет глаза, ведь женщина, которую не хотят замечать, способна на все. А что он поделает с собой, если не замечается? Да и может ли он кого-нибудь замечать теперь, в ожидании дочери! Вдруг и Анна… Ох, страшно подумать о ней.
Читать дальше