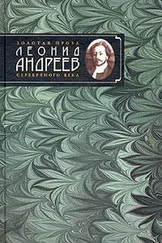Но подумал опять о войне, о сожженном, порушенном, о загубленных, искалеченных, обездоленных и закрыл руками лицо. Вспомнил Людмилу и, шепотом произнося ее имя, отчетливо видя ее перед собой, не ощутил той радости, которую испытывал при каждой встрече с этой женщиной, при одной мысли о ней.
Чтобы хотя немного забыться, он принудил себя читать лежавший перед ним журнал. Но попались стихи, наверное, начинающих, — этакое невразумительное чирикание и позванивание колокольчиков-рифм. Только последнее стихотворение и врезалось сразу же в память. Оно как бы специально посвящалось ему, объясняло состояние его духа. Дружинин закрыл книгу и, беззвучно шевеля губами, повторил наизусть последние четыре строки:
Жизнь не поле, а сердца — не камень,
И не просто меж годами битв
Строить обожженными руками,
Смерть познав, смеяться и любить.
А может, и невозможно!.. Павел Иванович вынул из конверта письмо, достал из стола листок чистой бумаги и тут же написал ответ министерству: против перевода в Белоруссию, по старому месту работы, не возражает.
XVIII
За город всем коллективом снова выезжали в середине августа.
В день выезда Григорий Антонович Кучеренко поднялся до свету — не спалось. Вообще, когда предстояло что-нибудь необычное: поездка, близко ли, далеко ли, встреча большого праздника или покупка для дома немаловажной вещи, — сон у старика пропадал. Даже перед собранием, если оно назначалось заранее и Григорий Антонович собирался выступить в прениях, он не мог спать спокойно; поднимется с головной болью, перепутает все, что надо сказать, да так и не выступит, промолчит.
На кухне старик примерил брезентовую куртку и кожаные сапоги с голенищами до пахов, на случай дождя приготовил прорезиненный плащ. Все эти вещи были у него новые, хотя и куплены лет пятнадцать назад, по приезде в Сибирь. Тайга рядом, а охотиться приходилось редко — некогда, да и годы не те, не будь собственной машины у Соловьева, и теперь не засобирался бы далеко.
На часах не было и шести, Кучеренко вышел из дому посмотреть, не идет ли переулком Дружинин — уговор был поехать вместе. Нет, улицы и переулки пустынны; над крышами домов висит редкий туман, кое-где пробитый лучами солнца, — должен разыграться денек! Григорий Антонович открыл ставни во всем доме, не притронулся только к окну в комнату Соловьева: пусть поспит еще, ложился после полночи, все гоношил "москвича".
В доме гудела растопленная Ильиничной плита; вернувшись с улицы, старик обогрел у огонька руки (так, по привычке, холода-то на дворе не было, одна сырость), замялся ружьем, вычищенным еще накануне. Перед светом от окна осмотрел каналы стволов, взялся за шомпол.
— Не мешался бы под ногами, — проворчала Ильинична, проходя мимо с кастрюлями.
— В стволе должно быть чище, чем у тебя в глазу. Поняла? Только тогда и дичь на ружье пойдет. И… знай пеки подорожники.
Когда старуха начинала греметь посудой или хлопала домашними туфлями, проходя мимо дверей комнаты Соловьева, старик шевелил бровями, шипел:
— Кыш ты! — И тряс для большей острастки двустволкой.
Да не шибко боялась его Ильинична, знала, пальцем не решится задеть, не верила и в его охотничьи способности — похрабрится и здесь и в лесу, да и воротится с пустым ягдташем.
В коридоре с полотенцем через плечо появился Соловьев.
— Разбудили! — хлопнул себя по пухлым коленям Григорий Антонович. — Не дали как следует выспаться.
— Выспался. Никто меня не будил, — с улыбкой сказал Петя, направляясь к умывальнику. — Да если на то пошло, разве на войне шума не было? Не научился спать при шуме и гаме?
— То война, это — мир; пошумели, побренчали и довольно. — Старик заглянул в окошко. — А вообще-то, для молодости что он, домашний шум. Вот Тамара у нас и раньше спала, и теперь спит, хоть мостовой кран под потолком греми, не услышит — характер. — Сказал и замолк. К чему опять о Тамаре? Была она непутевая, непутевой и осталась; тогда Павла Ивановича, можно сказать, выжила из дома, теперь этого изводит на каждом шагу. — А Дружинина нет и нет…
Соловьев высунул из-под крана намыленное лицо.
— Он же не поедет. Он дочку встречает, она в экспедиции где-то была.
— Раз такой случай, ничего не попишешь, перекусим горяченького и — в путь-дороженьку без него.
Через полчаса, захватив попутно Веру Свешникову, они катили по ровному, высеченному в камне шоссе.
Загородные места в это августовское утро были необычны: широкие пади тонули в молочно-белом тумане, зеленые сопки поднимались из него, как острова. А над разлившимся морем тумана, над островами лучилось умытое влагой солнце, еще не жаркое, а только теплое, обещавшее знойный день. Дорога то спускалась в пади, то взмывала на сопки. То погружалась в густую мглу, то вырывалась на ослепительный свет легковая машина.
Читать дальше