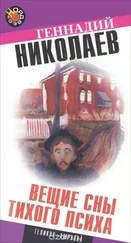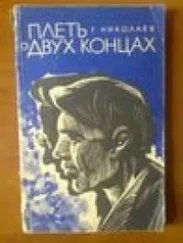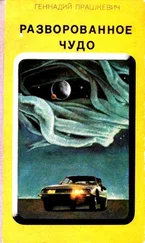— Убедились? — болезненно кривясь, спросил он. — Это могло вам дорого стоить. Я не врач, но тоже кое-что понимаю.
Максим Тимофеевич вдруг поймал себя на том, что как-то очень туго соображает: то, на что намекнул Лапенков, дошло не сразу, а лишь через какое-то время, когда он вроде бы уже и думать перестал о том, что сказал сосед.
— Не врач, а здорово получается. Учились, что ли? — спросил он, решив, что лучше не затевать про ящик.
— Когда альпинизмом занимался. А потом, я же говорил про отца, — ответил Лапенков. Помолчав, он сказал с грустью: — О первых двух инфарктах отец вообще не знал, на третьем кардиограмму сделали, тогда только и обнаружили.
— Здоровый мужик был? По вам не скажешь.
— Работа в основном сидячая была, сидячая и нервная.
— Бухгалтером?
— Историком. Доктором был исторических наук, в университете работал.
Максим Тимофеевич подумал и согласился:
— Да, история — дело нервное. Казалось бы, прошло-пролетело, из-за чего нервничать-то, а жизнь — она вся на истории стоит, как дом на фундаменте. Горячее дело — история.
Лапенков вытер руки, аккуратно повесил полотенце на спинку кровати, задумался о чём-то своём, устремив глаза в далёкую точку за окном.
— А вы случаем не из богомольцев? — спросил Максим Тимофеевич без обиняков, вспомнив про книгу, с которой парень, похоже, не расставался ни днём ни ночью.
Лапенков удивился:
— Богомолец?! С чего вы взяли?
Максим Тимофеевич пояснил своё предположение:
— Волосы как у попика, книги странные читаете.
Лапенков потрогал свои длинные спутанные космы, погладил залысины, осторожно взял со стола книгу, словно она была тем вещественным доказательством, которым его полностью уличили.
— Волосы — хм, пожалуй, вы правы. Пора в парикмахерскую, да всё некогда, — признался он, рассеянно улыбаясь. — А книга… Это же Ренан, история Нерона. Был такой изверг в Древнем Риме, устраивал кровавые спектакли.
Слышал я про Нерона, был Нерон да весь вышел.
— Увы, не весь.
Лапенков полистал книгу, собираясь, видимо, прочесть из неё что-то, но передумал, махнул рукой.
— Отца и многих его коллег интересовало в истории главным образом то, что разъединяло народы, а я стараюсь понять, что их объединяло.
— А чего тут понимать, давно всё понято, — уверенно сказал Максим Тимофеевич. — Богатство разъединяет, бедность объединяет. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всё ясно. Или вы по-другому думаете?
Хотя он и не хотел, но вопрос его прозвучал с нотками угрозы. Лапенков с насмешливым прищуром взглянул на него, отвёл глаза — не спорить же с инфарктником…
— Не волнуйтесь, я думаю так же, как и вы, не совсем точно так же, но в принципе так же.
— Что-то вы юлите.
Лапенков пожал плечами, дескать, ваше право думать что угодно. Максим Тимофеевич сердито засопел, как обычно, когда начинал заводиться, а мысль ещё не прояснилась настолько, чтобы выразить её словами.
— Рано списываете нас, стариков, — проворчал он, мысленно напрягаясь в попытке поймать то, что крутилось где-то близко-близко.
Видно, задетый за живое ранее брошенной репликой соседа, Лапенков лёг было, но тут же вскочил и запальчиво произнёс:
— Вы, я вижу, придерживаетесь того взгляда, что человечество, как крест, состоит из четырёх частей: бедные — богатые, старые — молодые. А не кажется ли вам, что возможны другие, более усложнённые вариации? Например, "или — или" и "и — и"?
— Бред собачий, — с ходу определил Максим Тимофеевич.
— Вот как? Бред, да ещё и собачий? — Лапенков пытливо, даже с каким-то интересом посмотрел на Кочегурова. — Излишками вежливости вы не страдаете.
— Обиделись? — насторожился Максим Тимофеевич. — Бросьте! Мы же мужики, к тому же я старик. Стариков надо понимать. И прощать. Как детей.
Он выспался, отлежался и теперь чувствовал себя благодушно. Ему показалось, что Лапенков ждёт от него откровенности, тем более что Максиму Тимофеевичу вдруг захотелось поговорить. Задел его чем-то сосед, какой-то своей манерой странно усмехаться, говорить полунамёками, покачивать головой, отводить глаза и в то же время явно показывать свою независимость. "Молокосос, по сути дела, а держится на рупь двадцать", — подумал он, примериваясь, каким тоном лучше всего начать. Он хотел уж было отступиться от парня — бог с ним, случайный человек, но вспомнил, как неоднократно сам же выступал на собраниях, рьяно призывал к тому, чтобы они, старики, учили молодёжь не только тонкостям профессии, специальности, но и передавали верный взгляд на жизнь, верный, потому что по-другому просто-напросто нельзя, невозможно… И он заговорил о том, что действительно волновало его и стариков сверстников: о расхлябанности на производстве, об отсутствии дисциплины как главной причине всех наших бед. По его мнению, всё дело сводилось к одному: чтобы поправить положение, надо снова закрутить гайки, ввести строжайшую дисциплину на заводах, в колхозах-совхозах и учреждениях, за малейшее нарушение — строгое наказание, вплоть до суда.
Читать дальше
![Геннадий Николаев Квартира [рассказы и повесть] обложка книги](/books/403963/gennadij-nikolaev-kvartira-rasskazy-i-povest-cover.webp)