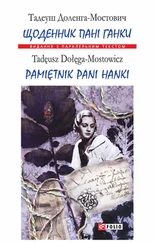Нет ничего легче… Но это было бы жестоко, немилосердно, эгоистично и низменно. Все равно что толкнуть его вниз, отобрать у него единственный импульс, который мог его поддержать, дать ему опору в худшем из несчастий.
«И что я потом скажу ребенку?… Твой отец был слаб и сломан. Сделал ошибку, и его из-за этого затравили люди, а я его бросила, поскольку разлюбила».
Да. Так бы ей и пришлось говорить, потому что это была бы правда.
Богна вытерла слезы и, обняв себя руками, погладила живот мягко и ласково: «Нет, золотко мое, моя жизнь, не бойся, не бойся… Все для тебя сделаю, от всего отрекусь, все вытерплю. В тебе моя награда, в тебе радость и счастье. Увидишь, я начну работать, а отец твой вернется к трудам, люди забудут, простят, ты придешь в мир, а мир станет тебе улыбаться, сладчайшее мое дитя… И никакой обиды не причинит тебе жизнь. Ты будешь светлым, и красивым, и счастливым. Правда, мое дитя, правда?…»
И слезы снова потекли по щекам Богны, слезы страдания и радости, слезы отчаяния и надежды.
Она плакала тихо, и в маленькой комнатке слышалось лишь мерное и беспечное сопение спящего Эвариста.
Борович время от времени поднимал глаза от книжки и поглядывал на брата. Тот вырос и повзрослел, хотя и похудел при этом. Он вроде бы стал выше, более плечистым и гибким, а возможно, так казалось из-за военного мундира. Брат приехал вчера вечером, и они еще не успели обменяться и двумя десятками фраз, а Борович уже понимал, что Генрик почти чужой ему. Собственно, нет, не чужой. Он все так же чувствовал по отношению к нему сердечную привязанность, как и раньше радовался его присутствию и осознанию, что у него есть такой брат. И все же он был несколько скован ощущением самостоятельности Генрика. Не находил уже в нем неопределенности, того парня, которого формировал лично, парня, который скорее представлял собой метафизическую часть воспоминаний о доме и семье — скорее полуреальный объект сантиментов, чем индивид, занимающий конкретное место, тот, кто оценивает и наблюдает. Близость эта не стерлась, но между ними словно бы появилось опасение, что она может исчезнуть, пусть даже сам факт разницы между ними не мог пошатнуть и отменить братские отношения.
Стефан обнаружил это сперва в себе, а потом и в Генрике. Он прекрасно видел, как тот, твердо в чем-то убежденный, старается смягчить свою позицию, не столь резко провозглашать свои взгляды. Но даже эти внимательность и уважение, какие он оказывал старшему брату, возникали не из уверенности, а строились на основе чувств.
И все же разница между ними проявляла себя сама. Часто они начинали говорить о вещах неважных, повседневных, не имеющих значения, но разговор непонятным образом переходил на базовые вещи и важные взгляды. Эти темы, казалось бы, не связанные с основной темой разговора, становились словно бы обоюдной разведкой, исследованием и узнаванием друг друга.
Генрик пришивал пуговицу к мундиру, складывал свои вещи, одевался, Стефан читал книгу, но они то и дело возвращались к беспокоившему их вопросу.
— Если не принимать во внимание состояние твоего здоровья, — начал Стефан, — и если служба в армии не слишком для тебя тяжела, то я не могу понять причин твоего решения.
Генрик закрыл чемодан.
— Видишь ли… Мы, похоже, плохо друг друга понимаем.
— Наверняка. Не виделись уже пару лет…
Генрик засмеялся:
— Знаешь, Стеф, что мне пришло в голову… что мы не виделись… лет двадцать пять. Потому нам сложно друг друга понять. Я моложе тебя почти на двенадцать лет. И только сейчас, скажем так, созреваю.
— Ты всегда отличался изрядной рассудительностью, — возразил Стефан и отвернулся, почувствовав, как краснеет из-за слишком вежливой фразы.
Генрик тактично помолчал минутку, а потом сказал:
— Понять нам друг друга непросто не из-за нашего нежелания. Разница в двенадцать лет в другое время была бы не слишком большой, но сейчас это нечто иное. Ты сам как-то говорил мне, что на формирование человеческой сути влияют среда, эпоха, интеллектуальная и этическая атмосфера. Так вот, мы с тобой воспитывались в совершенно разных атмосферах, в разные эпохи. Возьмем, например, вот что: тебе кажется варварством любая человеческая иерархия, кроме иерархии интеллектуального уровня, уровня культуры, цивилизации, а я полагаю, что сама относительность подобной иерархии уже ее нивелирует. Я понимаю иерархию воли, характера, способности идти к сознательной цели. Не обижайся, что в этом, может, не хватает некоей окончательной упорядоченности. Я не настолько сообразителен, чтобы иметь в голове идеальный порядок…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу