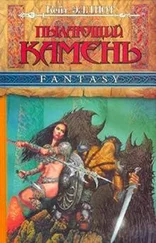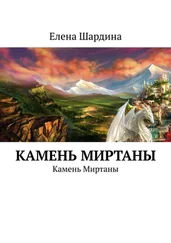Ребятам неловко сделалось. Вдруг слышат, кто-то в овине молотит, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Спрашивают, кто там молотит, а она: да это свояк, и приглашает в дом выпить кислого молока. Ребята не лыком шиты, говорят, с удовольствием, но сперва надо у того, в овине, спросить, может, он чего знает. Открывают воротца, а это сам Рябина молотит.
— Молотишь, Рябина? — говорят.
— Ну. Молочу, как видите, — говорит.
— Мы думали, ты погиб, Рябина, — говорят.
— Погиб — не молотил бы, — говорит.
— Что ж ты, Рябина, из отряда убежал, нехорошо, — говорят.
— Не убегал я, — говорит. — Пришел только к бабе на молотьбу, кто ей без меня обмолотит.
— А может, ты предатель, Рябина? — говорят.
— Кабы предатель был, нанял бы работника. Работник бы молотил, а я вас выдавал, — говорит.
— Собирайся, Рябина, пошли, — говорят.
— Соберусь, когда обмолочу, — говорит. — Мне еще пшеницы дюжины две снопов осталось. И вон тот овес для лошади.
Ребята за пистолеты, а он их цепами по башкам. Потом руки им повыкручивал, пистолеты отобрал.
— Скажете, что я живой. И не предатель. А теперь ступайте в хату, пусть вас жена молоком напоит. И проваливайте. Я сам по своей воле приду, а заставить вы меня не заставите.
Зашли мы в корчму пропустить по стопочке. У Рябины в руках был кнут и на голове баранья шапка, вроде бы он возчик. А Береза остался на базаре и должен был дать знак, когда явится это магистратское падло. Втроем нам оставаться нельзя было, чтоб не привлекать внимания. Рябине же выпить требовалось перед тем, как в гадов стрелять. Он говорил, что тогда и рука тверже, и глаз зорче, но, может, не все говорил. Правда, он и без такого повода выпить был не дурак. Только в одиночку пить не любил, непременно должен был найти человека, у которого бы душа болела, чтоб, как ксендз, сказать тому утешительные слова. Если душа болит, обязательно надо выпить, тогда и утешенье скорей поможет.
Так было, когда в отряд Кручина пришел. Точно к брату, прилепился к нему Рябина. Тот только-только жениться успел, а пришлось сразу бежать в лес, оставив дома одну-одинешеньку молодую жену. Отсюда и кличка Кручина. Мужик плечистый, высокий, волосы кудрявые, черные, брови кустистые, и жена, наверное, красивая была. Кое-кто ему завидовал, хотя он ничего про нее не рассказывал, а Рябина сразу принялся его утешать:
— Еще, брат, тебе с нею жить и жить. Мне тоже невтерпеж бывало. Иной раз ночи дождаться не мог. А то и на поле, на пашне, идет кто мимо, не идет, все равно. Случалось, и «бог помочь» нам говорили. А теперь наведаюсь время от времени, дров ей нарублю, коню осмотрю копыта, не потерял ли подковы, скребницей по нему пройдусь, скажу, где что сеять, сажать, а захочет помиловаться, говорю, война сейчас, Валерка, нам врага надо бить, с любовью пока погодим. С другой бабой, может, я бы еще не прочь. Вроде бы все то же самое, ан нет, не все. Со своей только заботы и соединяют. И хорошо, что господь их посылает, без забот какие бы у вас с ней вместе были дела? Со своей, брат, словно сам с собой. Ты ли, она ли — одно тело, натруженное, так натруженное, злое, так злое. Лучше уж водки выпить, то же самое почувствуешь. Да и троих ребятишек мы уже сделали, неужто делать четвертого? Кто знает, какая его ждет судьба. Может, самая бессчастная. Думаешь, кабы не то, я б пошел в партизаны? На черта мне это сдалось? Вши грызут, не высыпаешься, а то еще и убьют. А дома никто меня не трогал, никто за мной не приходил, поставки я сдавал, у свиней, коров в ушах номерки. Окна ночами всегда завешены. Чего не разрешали петь, того не пел. Жандарм и тот говорил, гут, герр Садзяк, гут. Только невмоготу стало.
Рябина погиб при налете на тюрьму в Олешицах. А Кручину ему недолгое время довелось утешать. Тот раз пошел ночью поглядеть, как там молодая жена одна. Отговаривали его ребята, не ходи, Кручина. И Рябина отговаривал, слишком много хочешь знать, брат, гляди, чего не надо узнаешь. Уж лучше напейся.
Ночь была звездная, деревенские собаки его знали, одна-две только залаяли спросонок. А ихнюю собаку жандарм застрелил, когда к ним приходили с обыском, хоть бы и вор залез, лаять было некому. Кручина постучал в окно, подождал, покуда жена встанет и в белешенькой сорочке замаячит, как призрак, за стеклом, и не поверит, что это он, подумает, тоже призрак. Потом кинется отворять дверь, а он ей навстречу руки раскроет. Сиренью вокруг пахло, потому что возле хаты густо росли сиреневые кусты.
Он во второй раз постучал, погромче, но почему-то в хате не было никакого движенья и никто не показался в окне. Он постоял немного, послушал, поглядел и пошел к двери. Дверь была не заперта. Он вошел, сказал в темноту: слава Иисусу, сказал: это я, где ты тут, Ванда? Но только наседка заквохтала в лукошке под столом, верно, подумавши, что кто-то пришел забирать у нее цыплят.
Читать дальше