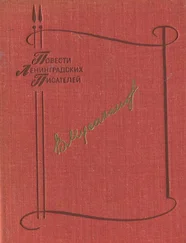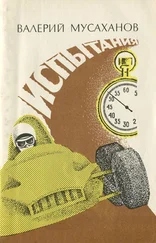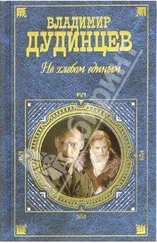В его пустых главах не было ничего, только серая студенистая покорная беспросветность. Рука у меня опустилась. Боль стала отчетливее, я замычал сквозь зубы.
— Петрович, прости, — услышал я безголосый, как предсмертный хрип, шепот Краха.
Кривясь от боли, спрятал нож в рукав, сдерживая стон, сказал:
— Пошли, гад, повяжут сейчас. Вставай, сука!
Он быстро поднялся, подобрал сумку.
— Поддержи, падла, — выдавил я и, почувствовав, как жарко намокает рана, спросил: — Кровь есть?
Крах суетливо заглянул мне за спину и радостно проскрипел:
— Не, Петрович. Прореха маленькая.
— Пошли.
До машины Крах вел меня под руку.
— Садись, — сказал я. — Отключусь, так навернешься вместе со мной.
Боли почти не было, но чувствовалось, что рубашка и весь бок стали липкими и мокрыми. Я завел двигатель и поехал, управляя одной правой рукой. Раза два по дороге меня охватывала дурнота, но ощущение руля в ладони и рокот мотора помогали. Когда въезжал во двор, почувствовал, что левый бок промок до самого пояса, но уже пришло какое-то заторможенное, полусонное спокойствие.
— Открой и придержи левую воротину, — сказал я и дал Краху ключ от каретника.
Из машины я вылез с трудом.
— Замкни, пошли ко мне, поможешь, — приказал я Краху.
В квартире я зажег свет на кухне, расстегнул пуговицы пальто и, протянув правую руку в сторону, сказал Краху:
— Стяни.
Он осторожно потянул, посапывая носом. Я выпростал руку, и нож с легким стуком вывалился из рукава на линолеум. Узкий клинок без канавки, сантиметров пятнадцать длиной, и желтая деревянная ручка. Следов крови на лезвии не было. Носком сапога я загнал нож под газовую плиту и сам стал осторожно стягивать левый рукав пальто. Боли не было. Хотелось только спать.
— Петрович, прости. — Крах вдруг упал на колени, заплакал, захлебываясь, — бес попутал. Ну, убей, выткни глаз! — Он ударил себя кулаком в грудь.
Я стащил рукав, пальто упало на пол.
— Помоги снять клифт, — сказал я, и Крах поднялся.
Когда была снята и окровавленная рубашка, он сказал:
— Я, Петрович, врача вызову, краски много. Скажем, бакланюга на улице подколол. А?
Ноги уже плохо держали. Я сел на табуретку, с трудом спросил:
— Гнида, зачем ты заточку с собой взял? Прибрать меня хотел?
— Что ты, что ты… Заскок зашел в голову. А она всегда у меня… Прошлый год рыло начистили вечером прямо у дома, без олов. С тех пор ношу. — Он стукнул кулаком в грудь. — Петрович, ну не хотел я! Заскок это. От такой капусты.
— Вали отсюда. И чтоб завтра тебя в городе не было, а то оба сгорим. Слышишь? Шакал!
— А ты? Ведь кровищи много…
— Уходи! — Я, не глядя, нащупал на столе бронзовую пепельницу.
Крах исчез.
Я встал, пошатываясь, одной рукой чиркнул спичкой, зажег газовую колонку и вдруг почувствовал, что хочу курить. В пальто были сигареты, но я боялся нагнуться и медленно, стараясь не тревожить плечо и левую руку, побрел в комнату, тут и раздался звонок.
Я остановился против входной двери и, вдруг осипнув, спросил:
— Кто?
— Я, — ее голос был по-детски испуган и тих.
Я потянулся осторожным движением повернуть пуговку замка, но вдруг сказал легким деланным голосом:
— Наташа, прости, я сейчас не одет. Зайди завтра, — и бережно опустил правую руку.
— Не уйду, откройте! Я знаю, что-то случилось. Откройте! — В голосе ее была дрожь.
— Наташа, ну ей-богу…
— Откройте! Я видела, как убегал этот тип, — она всхлипнула, отчаянно крикнула: — Я сейчас людей позову!
Силы кончались. Я открыл дверь.
Без пальто, в одной только светлой блузке, она прижалась ко мне, обхватила за плечи. Прикосновение холодного шелка обожгло болью, и я застонал, отстранился.
— А-ах! — с ужасом выдохнула она, увидев кровь на своей ладони. — Что это?
— Только никого не зови, — уже теряя память, простонал я и поплыл куда-то в жарком оранжевом тумане.
Потом меня несли. Земля качалась. Звучали вдали чьи-то знакомые голоса. Боль шевелилась в левом боку, но я знал, что мне нельзя просыпаться. Если проснусь, отец изобьет меня за то, что я рисовал кораблики левой рукой. Изо всех сил я старался не проснуться, а страх, мохнатый, мокрый и скорбный, как больная обезьянка, смотрел на меня немыми страдальческими глазами.
Часы отбивали восемь. Были непривычно раздвинуты шторы, и свет, желто-лиловый, апрельский, подступал к самому дивану. Двойной бронзовый бой, казалось, колеблет его и укачивает.
Я полулежал на подушках, чувствовал скованность плеча и шеи повязкой, все помнил, но не хотел знать ничего.
Читать дальше