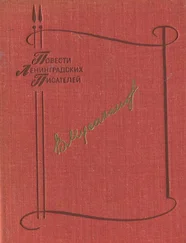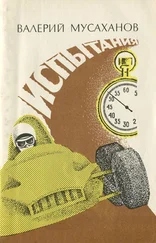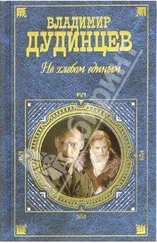— Да. Только не кричи, пожалуйста.
— И больше не болтай. Потом сама локти кусать будешь, — я бросил трубку и вдруг почувствовал мелкую противную дрожь, и порыв внезапного почти детского страха наполнял холодом грудь.
Все еще нервничая, я набил сумку старыми газетами, закрыл «молнии» и вышел. Пора было ехать.
На сиденье машины я успокоился, закурил, посмотрел на освещенное окно Натальи и, не включая подфарников, вырулил со двора. Только за перекрестком включил свет.
Лиловое небо накрывало город. В редких сиреневых сумерках подфарники встречных машин желтели бледно, стоп-сигналы попутных вспыхивали сочным гранатовым светом. Что-то неуловимо менялось в городе, апрель щемяще отдалял перспективы.
Гнетущим было предвестие моей сорок первой весны.
Я ехал по спокойному Невскому, машинально перестраивался из ряда в ряд, а сам тоскливо думал о чем-то бессловесно и беспредметно. Свернул на Садовую, и при шли слова. Мне было жаль Буську а эту дуру Беллу, было жаль себя, жаль моих сорокалетних друзей. Когда спокойная, уверенная, нерефлексирующая зрелость придет ко мне? Как грустно смотреть на тридцатипятилетних девочек в джинсах, на мальчиков в сорок лет… Горько сказал хороший поэт: «И мы понимаем, что канули наши кануны, что мы, да и спутницы паши, — не юны». Все так, но почему горечь? Почему нет просветленного чувства зрелости (не у меня, пусть у других, кому повезло чуть больше)? Быть может, это от тягостного военного детства, от чувства какой-то недожитости? Если человек в свои десять лет, вместо радостного открытия мира, испытывает чувство угасания и в затуманенном сознании буднично высчитывает свой конец, то потом, если он, конечно, выживет, в душевном развитии остается какая-то пустота, как выбитый взрывом снаряда пролет моста. По такому мосту трудно переправиться на тот берег. Что-то не смыкается в жизни, и человек созревает тягостно, мучительно долго ждет самого себя и в сорок лет играет в опасные игры — в поиски единственных и вечных любовей и окончательных смыслов, как в свои десять-двенадцать играл ручными гранатами и невзорвавшимися минами…
Маршрут мой кончался, я въехал в переулок, заглушил двигатель и погасил огни. Нужно было вести свою игру.
Клейкой лентой я прикрепил сверточек к подошве левого сапога возле переднем грани каблука, взял сумку, вылез из машины и огляделся.
Коротенький, с подслеповатыми фонарями переулок был пуст из конца в конец. Медленно, ленивой походкой праздного человека, закинув ремень сумки на плечо, пошел я к углу улицы, свернул и в отдалении сразу заметил фигуру Краха в модном коротком пальто. Взглянул на часы: без пяти девять. Прозрачной и чистой была темнота.
— Жди в парадной, — буркнул я, поравнявшись с Крахом. Той же ленивой походкой дошел до конца квартала, вернулся, быстрым шагом обгоняя редких прохожих, и уверенно вошел в парадную.
Свет пыльной маленькой лампочки тускло освещал первый марш ступенек. Я помедлил мгновение, ощутив, как учащается дыхание, потом стал неторопливо подниматься, поглядывая на облупившиеся голубоватые с фигурными тягами стены. Волнения почти не было.
Крах поджидал меня на площадке у окна. Лицо его в пыльном лестничном свете казалось сделанным из упаковочного картона, лишь чернели усики опереточного злодея да мутно серела пустота глаз.
— Пошли, — вполголоса сказал я.
Тихонько, почтительно просопев носом, он стал подниматься за мной. Перед дверью я остановился, повернулся к нему.
— Стань здесь, чтобы тебя видели, когда мне откроют, — прошептав, указал я на закругление перил на площадке. — Поблатнее стань, обопрись, — я поднял ему воротник пальто, за козырек надвинул кепочку пониже на глаза. Отошел к двери, посмотрел. Фигура Краха и картонная рожа производили эффект. — Руки в карманы, — шепнул я. — Годится. Создашь этот понт, потом поднимешься к окну и жди.
Крах кивнул, скрипучим шепотом спросил:
— А если ты тормознешься, Петрович? Мало ли…
— Не должно быть. Тут фуцена, штопорить не станут. Жди полчаса, — одними губами почти без голоса ответил я.
— Менты не наедут? — Крах засопел.
— А для чего я тебя наверх посылаю? Переждешь и рванешь, — уже разозлившись, прошипел я и повернулся к двери.
Звонок не был слышен, но почти сразу раздались веселые шаги. Щелкнул только один замок. Это мне почему-то понравилось.
На пороге отворившейся двери стояла симпатичная невысокая армянка лет тридцати с разлетистыми густыми бровями и бархатной чернотой продолговатых глаз; под милым, слегка горбатым носиком, как тень, темнели усики. Я невольно улыбнулся:
Читать дальше