Кончался мирный этап развития революции. Буржуазия при поддержке меньшевиков и эсеров готовилась перейти в наступление, разгромить большевистские организации, разогнать в конце концов Советы, установить, упрочить свою единовластную диктатуру.
Тяжелые это были дни, дни июля 1917 года. После расстрела июльских демонстраций Владимиру Ильичу пришлось скрываться, перешли на нелегальное положение и некоторые другие руководители партии большевиков. Теперь стало опасно открыто выражать свои симпатии большевикам и, тем более, выступать публично от их имени.
Но студентка Харьковского женского мединститута двадцатилетняя Лиза Репельская с гимназических лет привыкла к опасности, ведь она была членом социал-демократического кружка в Белостоке, распространяла газету «Социал-демократ». Позднее в Гродно она уже была опытной подпольщицей, партийным функционером.
Сегодня Лизе во что бы то ни стало нужно выступить на митинге в Москалевке. Идут выборы в Харьковскую городскую думу. На Москалевке стоит запасной полк, проживает множество обывателей. Конечно, рассчитывать на то, что многие избиратели отдадут свои голоса за кандидатов списка № 3, не приходится. Москалевка — известное гнездо эсеров и черносотенцев, и все же бой им дать необходимо.
В те дни почти у каждой придорожной тумбы, у всякого высокого крыльца бушевали митинги. Репельской не впервой выступать с трибуны. Слушателей много, но толпа угрюмо молчит. Обыватель — так тот просто верит, что Ленин — немецкий шпион. Бородачи-запасники считают, что так блестяще начавшееся наступление на фронтах провалилось усилиями большевиков. А тут на тебе, какая-то смазливая девица призывает голосовать за этих предателей. Не бывать тому!
Толпа всегда таит в себе огромнейший потенциальный заряд эмоций. И достаточно кому-то одному нарушить шаткое равновесие противоборствующих настроений, этот заряд может разразиться ударом смертоносной силы.
Так было и на сей раз. Пьяный эсер стащил Лизу с тумбы, ее окружили… И что этим громилам до того, что перед ними женщина, в свои удары они вкладывали всю силу пьяной ненависти.
— На Павловскую ее, там фонари хорошие!..
Лизу подхватили, потащили, продолжая избивать. Кровь залила глаза, очки были разбиты еще раньше, и Лиза не видела, что ее тащат по Кузнечной. А на Кузнечной помещался Харьковский комитет большевиков.
Артем и несколько товарищей, находившихся в это время в комитете, были увлечены спором и, наверное, не заметили бы толпы — мало ли ныне всяких демонстраций да манифестаций. Но в комнату влетел красногвардеец, охранявший комитет.
— Сидите, языки чешете, а там хулиганы нашего товарища к фонарному столбу прилаживают!..
Через миг комитетчики были уже на улице.
Драка завязывалась нешуточная, и как знать, чем бы это все обернулось для комитетчиков — противников было слишком много, — но на помощь подошли солдаты 30-го полка. Эсеры, черносотенцы разбегались, не оглядываясь.
Теперь Артем мог рассмотреть «виновницу торжества». Конечно, кровавые подтеки не украшали девушку, но они как боевые ордена… В общем, понравилась эта чернявая медичка и, как вскоре Артем узнал, любимица знаменитого анатома Воробьева.
Думал ли Артем, провожая Репельскую домой, что в этот день кулаками отвоевал себе жену, как потом любили подшучивать над ним харьковские товарищи.
Сентябрь — октябрь. Сумасшедшие дни. Артем с детства знал, что в месяце четыре недели, тридцать — тридцать один день, но если бы кто-либо попросил его отличить эти дни, эти недели осени 1917 года одну от другой, то он безнадежно махнул бы рукой. Сплошное мелькание городов, лиц, заводов, воинских частей, заседаний, рефератов. Давно ли он обзавелся комнатой в квартире Лизы Репельской, давно ли ее стараниями и на ее деньги он обрел одеяло, подушку, приличные брюки и, что так важно сейчас, когда уже стоит глубокая осень и скоро грянут морозы, — пару теплого белья. Ему кажется, что все это случилось черт знает когда.
Австралия избаловала теплом. Даже и не верится, что он когда-то жил на Урале, по морозу шел с пересыльной партией поселенцев. Был ли Урал? Была ли Австралия?
Его немного познабливает в вагоне с выбитыми окнами, открытыми всем октябрьским ветрам. Вагоны для него стали в эти месяцы самым привычным жильем. И тут не соскучишься, наслушаешься, навидаешься всякого.
При нем не стесняются, его тужурка ничем не отличается от тужурок тысяч рабочих, его сапоги так же попахивают дегтем, как и сапоги тысяч людей труда, а косоворотка сшита из того же ситца, в который одета трудовая Русь. У него, как и у всех, нет круглых картонок, весь его багаж — тощая заплечная котомка или солдатский сидор. Он так же, как и большинство в этих вагонах, на завтрак, обед и ужин ест черствый хлеб, запивая его кипятком, когда удается разжиться им у хлебосольного соседа, захватившего в дорогу чайник; своего у Артема нет, а с жестяной кружкой, мятой и без ручки, не стоит труда толкаться в очередях к кипятильнику.
Читать дальше
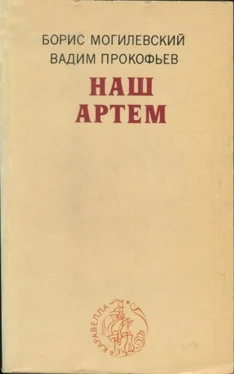

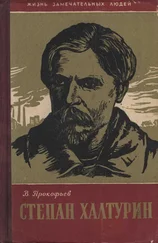







![Роман Прокофьев - Заклинатель [СИ]](/books/384696/roman-prokofev-zaklinatel-91-si-thumb.webp)

