И все же призрак был схвачен в Перми, схвачен вместе со всем составом Пермского комитета РСДРП. Их кто-то предал.
И вновь начались для Артема тюремные одиссеи. Он был измучен последними месяцами жизни на Урале. Он откровенно радовался, что в тюрьме хотя бы немножко отдохнет.
Но отдыха не получилось. Споры с Акимом — меньшевиком, прибывшим из Центра ревизовать результаты выборов делегатов на V съезд, потом допросы, опознания, переезды из тюрьмы в тюрьму, а по дороге — гангрена, тиф — все смешалось, все изнуряло до предела.
И суд в Перми, и 102-я статья уголовного уложения, лишавшая его всех прав состояния и обрекавшая на вечное поселение в Восточной Сибири, и новый суд в Харькове, угрожавший многолетними каторжными работами, — все осталось позади, как остался позади казавшийся бесконечным этап к месту поселения в селе Воробьеве.
Ангара! Полноводная, быстротечная. Сколько сказов, легенд сложено об этой реке. А кругом горы и дикая тайга. Можно часами (если, конечно, светит солнце) стоять на берегу, любоваться стремительными потоками реки. А причудливые очертания гор пробуждают фантазию даже у самых реальномыслящих.
Но Артем стоял на берегу неулыбчивый, хмурый. Шум реки напоминал о том, что, не дай бог, ненароком очутиться в ее водах — не выплывешь, и никто не придет на помощь в этой глухомани. Горы и тайга — они стерегут надежнее тюремных решеток и солдат.
Конечно, в селе Воробьеве можно жить. Ведь обитают же люди вот в этих шестидесяти дворах, хорошо просматривающихся с высокого берега. Но что значит жить в Воробьеве, за сто верст от ближайшей почтовой станции и более пятисот — от железной дороги?
Это не жизнь, а прозябание и неизбежное в таких условиях помешательство. Те, кто родился и вырос здесь, не знают городов, они никогда не слышали гудка паровоза, им неведомы книги. Впрочем, он не прав, книги в селе есть, они остались от ссыльных. Но местные поселяне их не могут прочесть — грамотных среди них и десятка не наберется. Здесь живут охотой, рыбной ловлей. Своего хлеба не хватает. Муку везут издалека, точно так же, как и порох. Чугунки, сковородки, кастрюли — этим убогим инвентарем дорожат больше, чем в иных столичных домах китайским фарфором или столовым серебром.
Нет, не такими представлял он коренных таежников. Ему всегда казалось, что это гордые сыны природы, живущие по ее законам, справедливые, честные, добрые, — с широкой, как сама тайга, душой. Может быть, он и спешит с выводами; но те несколько дней, которые он здесь прожил, явили иной облик обитателей Воробьева. Напрасно он искал бедняков, ту самую голь перекатную, которой полным-полно на родной Украине. Воробьево почти сплошь состоит из крепких хозяйчиков, тороватых мужиков. Конечно, имеются и работники, но это в основном народ пришлый или ссыльнопоселенцы.
Воробьевский селянин, как таежный медведь, у него и душа обросла шерстью. Он жаден, неправдоподобно жаден, и все, что можно подгрести под себя, — гребет. Он экономит на детях, жене, но не отказывает себе ни в чем, особенно в самогоне. Такого редко встретишь трезвым, днем он «в подпитии» — только-только чтоб не свалиться и не захрапеть, вечером же напивается и «показывает себя» — бьет жену, это одно из любимейших его занятий, выгоняет из хаты на мороз босоногих детей, изощряется в сквернословии, и ему неведомо чувство сострадания, жалости и благодарности.
Его дети вырастут такими же. Ведь они не знают иных людей, которым можно было бы подражать. С ссыльными им общаться не позволяют, да и среди поселенцев немало попадается людей опустившихся, выжиг и тоже пьяниц.
Артем ловит себя на мысли, что он, может быть, слишком сгустил краски. Впрочем, вот уже второй день у него не проходит чувство гадливости после безобразной сцены, невольным свидетелем которой ему довелось быть.
Двадцать человек ссыльных, прибывших вместе с ним в это село, недолго радовались обретенной свободе. Нужно было как-то устраиваться, зарабатывать на жизнь. А как? Скажем, его, Артема, специальность — машинист паровоза, инженер — здесь ни к чему, такими же ненужными оказались и профессии его попутчиков по этапу — библиотекарей, учителей, юристов. Оставалось одно — идти на расчистку леса, корчевать пни или наняться на покос. Но покосом даже на пропитание не заработаешь, за расчистку леса платят шестнадцать рублей с десятины. Трудная, потная, мозолистая работа. Приспособлений никаких, только руки. На этой работе нужно обладать большой физической силой, а где ее взять после нескольких лет тюремной баланды, после тифа? Но выбора нет. Пришлось наниматься на расчистку.
Читать дальше
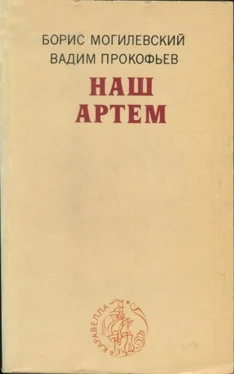

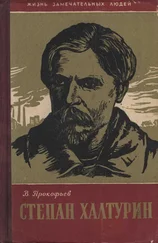







![Роман Прокофьев - Заклинатель [СИ]](/books/384696/roman-prokofev-zaklinatel-91-si-thumb.webp)

