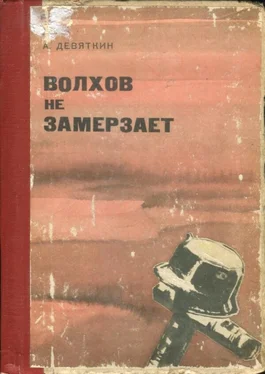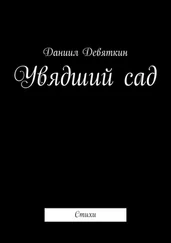Должино исчезло во мгле. Ни звездочки! Тучи, тучи… Ветер сечет лицо, перехватывает дыхание.
Начались гривские поля. Мальчики спустились с пригорка к замерзшему ручью. Где-то здесь, меж ракит, должна быть баня. Не она ли чернеет? Ребята сошли с лыж, с трудом отворили занесенную снегом дверь низкого сруба. Пахло гарью, дегтем, веником.
— Грейся. — Миша вынул из ранца пачку листовок, запрятал под пальто, вышел.
Вначале было слышно, как похрустывали его валенки: «скрип-скрип-скрип…» И все стихло.
Оставшись один, Журка заскучал. От однообразного посвиста ветра клонило в сон. Парнишка подставил лицо к разбитому оконцу, чтоб ветерок прогнал дрему, но отяжелевшие плечи, голова, спина искали удобной опоры, тогда наступало приятное облегчение, легко, невесомо падал куда-то. Борьба с дремотой утомляла. Кто там в оконце? Провалится за сугробом, вылезет, опять исчезнет Желудок! Никто из должинских так не махал руками при ходьбе.
— Все в порядке. А ты чего выскочил?
— Я-то?.. Да так…
— Теперь во-о-он туда… — В тусклом лунном свете едва-едва виднелись очертания ветряной мельницы.
А снег все валил и валил.
От мельницы ребята свернули влево, пересекли дорогу, пошли окраиной мелколесья.
Миша остановился:
— Сейчас будет рига. Там дожидайся.
— Ты что, бывал здесь?
— Какой был уговор? Ни о чем не спрашивать!
«Строит из себя командира…» Впрочем, долго Журка сердиться не мог.
Показались засыпанные снегом избы.
— Иди за мной… — Миша подхватил лыжи под мышку, оглядываясь, подошел к избе, постучал в ставень три раза. Потом еще повторил.
В сенях их встретил мужчина в тулупе внакидку. Журка ничего не видел в темноте, держался за Мишку, а тот шел, как свой.
— Не ждал, не ждал, — одобрительно рокотал басовитый голос хозяина. — Погодища-то! Сеет, веет, крутит, мутит, сверху рвет, снизу метет. Не плутанули через мхи?
— Нет. Шли хорошо.
— Смел, смел, Михаил. Как мамаша?
— Спасибо, здорова.
— Ну, грейтесь.
Хозяин исчез за ситцевым пологом. Миша пошел за ним. О чем-то они там шушукались. Потом, не зажигая лампы, хозяин поставил глиняную миску со щами. Журка подсел к печурке, снял валенки, размотал портянки, стал сушить. То же самое сделал и Миша.
Хозяин подал им по деревянной ложке.
— Хороши гости, вот только угощать больше нечем.
…Портянки и варежки не успели просохнуть, потные рубашки неприятно прилипали к телу. После теплой избы лихорадило. Ветер сразу взял мальчиков в переделку, едва они спустились с крыльца. Лыжи отяжелели, ноги подкашивались, одеревенели руки.
…А под Москвой шло наше наступление. О наступлении говорилось в листовках.
И несли ребята радостную весть о наступлении из села в село.
На всем лежал след скопидомства, унылого уюта, настороженной тишины. Из подпола тянуло затхлостью. Теленок положил морду на поджатые под себя ноги, сыто чмокал губами. За печкой спросонок лениво бормотали куры, словно церковные старухи побирушки. Пушистый жирный кот раскинул лапы, лениво шевелил хвостом.
Учитель Виктор Степанович, склоня голову, прилежно разматывал клубок шерсти. Жена первая заметила посторонних, поджала губы, отложила вязанье.
— Господи! Неужели дверь не заперта?.. — и вышла, недружелюбно оглядев вошедших: она не любила новых людей. Кого привел этот непутевый Сашка?
— Не в пору? — взглянул исподлобья Немков.
Павел снял очки.
Клубок выпал из рук Виктора Степановича, покатился. Жирный кот в сладкой истоме выгнул спину и по-тигриному бросился на клубок.
— Товарищ Васькин! Вот не ожидал!.. Чайку не желаете ли? — Виктор Степанович предчувствовал неприятное объяснение. Пожалел, что ушла жена, что нет тестя Прохора Тимофеевича. Заговорил полушепотом: — Ужасно! Как много отдано Германии! Не представляешь всей беды, пока не посмотришь на карту…
Виктор Степанович то опускал руки на колени, то складывал накрест — дрожат, выдают его. Он боялся немецких репрессий, боялся партизанских угроз. Немцы все знают. Разве неизвестны им его, Виктора Степановича, речи в школе до войны?
— Не знаю, как и жить дальше… Посоветуйте, товарищи: ум раздвоился…
— А вы у совести спросите. Или молчит совесть-то? Покладистая оказалась… — В голосе Васькина нескрываемое презрение. — Живете, как в болоте: куда ни ступишь — зыбко…
«Он и не знает, как он прав, Васькин. Зыбко все. Да, да, зыбко. Только дом — твердыня, крепость: уютно, сытно…» Почему с ним разговаривают таким тоном?
Читать дальше