Я сел на паром в 11:45. Как и в прошлую субботу, светило солнце, но народу было заметно больше. Пока паром отчаливал, я стоял возле леера, бросив сумку на пол, и смотрел на постепенно исчезающие из поля зрения изрезанные берега Уэссана. Я был уверен, что больше никогда не вернусь на этот остров.
Жан умер в конце ноября. Его похороны поразительно напоминали похороны его матери, скончавшейся двадцать один год назад. Та же деревня, тот же пронизывающий холод, те же облачка пара, вырывающиеся изо рта у произносивших прощальные речи. Не хватало только церковного отпевания: Жан не верил в Бога, и погребальная месса выглядела бы маскарадом. Зато на кладбище от желающих сказать надгробное слово не было отбою. Жена Жана и меня просила выступить («Ты же был его лучшим другом, Сильвер!»), но я отказался, потому что знал: я не смогу выговорить до конца ни одной фразы и попросту разревусь. Она меня поняла. Его отец, которому стукнуло восемьдесят пять, тоже был здесь. Он исхудал и ссутулился, его голову покрывала не по размеру большая меховая шапка. Увидев меня, он оторвался от группы людей, с которыми беседовал, подошел и крепко меня обнял. «Сильвер! Знаменитый Сильвер…» – взволнованно вымолвил он, повторив слова, сказанные мне пятьдесят лет назад, когда я забрался к нему в грузовик. Потом мы сидели в том же самом кафе – жизнь продолжалась. Мы вчетвером – Лурс, Люс, Мара и я – заняли один столик и заказали горячее вино. По-моему, точно за этим столиком мы сидели с Жаном, когда он признался мне, что тоже был влюблен в Мару. Я колебался: рассказывать им или не стоит, но в конце концов решил воздержаться. Это была его тайна, и он не давал мне разрешения делиться ею с кем бы то ни было. Ребята спрашивали, знал ли я там, на острове Уэссан, о болезни Жана. Я сказал им правду: Жан признался мне, что болен, только после их отъезда. Мы удивлялись собственной слепоте – никто из нас даже не догадался, что с ним неладно. Люс немного на него сердилась: зачем он нас обманул? Но Мара прекрасно его понимала. Она поступила бы точно так же. Лурс оценил его высокий артистизм: он до конца сохранил класс.
Когда настала пора прощаться, меня вдруг охватила тревога. Возникло чувство, что нельзя отпускать их просто так, что это неправильно. Невыносимо.
– Подождите!
Лурс и Мара, успевшие подняться, снова сели.
– Подождите… – Язык плохо меня слушался. – Я подумал, что мы… Что нам надо чаще видеться… Даже без Жана, хотя это он нас собрал. Я хочу сказать… В общем, не то чтобы надо прямо сейчас договориться, но… Я не предлагаю ничего планировать, но… Мы должны как-то…
Люс пришла мне на помощь:
– …почтить его память.
– Вот именно. Мы не должны его забывать.
– Тем более что это всем доставит удовольствие, – добавила Мара. – Или я не права?
Лурс сказал, что она абсолютно права.
Мы все согласились, что она абсолютно права.
На следующей неделе наше общение приняло лихорадочные формы. За несколько дней мы обменялись полусотней имейлов. Мы словно дружно взбунтовались против скорби, против смерти, против покорности судьбе. Мы договорились, что на будущий год обязательно встретимся и вообще будем поддерживать друг с другом постоянную связь. Люс предложила всем вместе отправиться в Швейцарию, в горы Юра. Там, объяснила она, есть одно шале в потрясающе красивом и тихом местечке. Мы будем гулять, есть раклет и пить белое вино. Все свои письма мы ставили в копию, кроме нескольких, очень коротких, которые мы с Марой посылали друг другу в личном порядке.
«Сильвер! Если мы встретимся, давай останемся в рамках чисто дружеских отношений. Иначе нам будет трудно вести себя с остальными. Обнимаю. Мара».
«Хорошо. Так будет лучше. Для всех. Целую. Сильвер».
«Спасибо. Еще один вопрос. Признайся, в ту последнюю ночь на Уэссане ты все-таки стучался ко мне в дверь?»
«Нет, Мара, я к тебе не стучался».
Его расписание неизменно – как и его маршрут. Около трех часов ночи он покидает убежище, которое старик устроил ему в саду. Это старый пчелиный улей, заваленный палой листвой, сухими ветками и землей, из которого проложен туннель в виде пластиковой трубы диаметром 20 сантиметров. Каждую ночь он с усилием протискивается через трубу и осторожно выбирается на свободу. Первым делом он принюхивается, поводя вокруг своей черной влажной мордочкой. Мимо блюдца с отбитыми краями, наполненного молоком, он проходит не останавливаясь. Молоко – смертельный яд для ежей, но старик этого не знает. Если в воздухе не пахнет опасностью – барсуком, совой, собакой, – он двигается дальше. Пробирается вдоль забора, карабкается на земляную насыпь и спускается уже по другую сторону изгороди. Пройдя немного вперед, он быстро-быстро пересекает дорогу (два его дружка недавно погибли здесь под колесами автомобиля) и по дну канавы направляется к интересующему его дому и огибает его. Его жирное тельце слегка покачивается на ходу; коротким лапкам трудно тащить на себе такую тяжесть.
Читать дальше
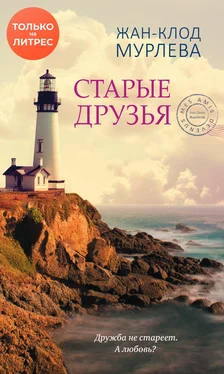


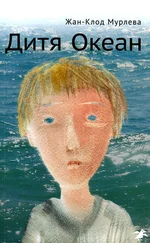

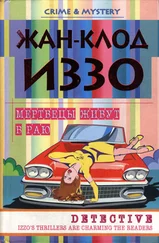



![Жан-Клод Мурлева - Джефферсон [litres]](/books/390425/zhan-klod-murleva-dzhefferson-litres-thumb.webp)


