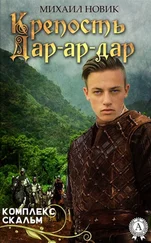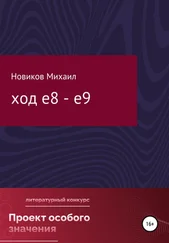Впрочем, вот что: тут же он распустил кулак и задумался. Прохожие обтекали его, некоторые толкали. Асфальт тускло блестел. Мало-помалу начал он понимать: что-то новое, что узнал он сегодня в ночь, ничуть не менее интересно, чем политика. И способно так же точно засосать и прилепить к себе. Он вдруг начал понимать, что еще не раз придет сюда — в поисках таких же случайных собеседниц — Земли и Луны, способных вывести его снова под ослепительный каменный взгляд Кусто.
Или кого-то другого.
«А, ладно. Потом», — Колычев кивнул и пошел, все ускоряя шаг, неизвестно куда.
Под утро пошел мелкий, гаденький дождик, а когда вышли на Садовое кольцо, оказалось, там еще дует и стало вообще холодно.
«Зря вы это, Александр Иванович», — подумал про себя Александр Иванович.
Александр Иванович Каменнозерцев, сорокалетний писатель-проститут.
Тут меня, автора, смущает одна вещь. Говорят, нехорошо делать героем писателя. Если делаешь героем писателя, это очень выставляет тебя в неудачном свете. Вроде ни о чем другом и писать уже не можешь, кроме как о себе самом. А лирическая личина Александра Ивановича — не более чем неуклюжая уловка.
Тем не менее он все-таки идет по Садовому кольцу, а рядом с ним шла Виток. Женская девушка небольшого роста.
Все молчали. Холодно.
Ночью спали мало, считай, вообще не спали. Водка, коньяк, чай в квартире у великого Положенского. Круглый стол, над которым свисали четыре светильника, как фрукты.
Положенский, в широкой блузе, делая красивые, округлые движения руками, говорил:
— Вы поверьте мне, Александр Иванович, работа начальника — это очень, очень легко. Это в тысячу раз легче, чем писать. А оплачивается… — он опять огладил рукой невидимую круглую форму и откинулся в кресле, — даже ведь сравнивать нельзя, насколько лучше оплачивается работа начальника, правда ведь, ну, Александр Иванович?
Александр Иванович и не спорил. Он хлебнул водки, заел кусочком огурца. Что тут спорить? Карьера писателя-проститута как-то застопорилась. Да ее и не было, никакой карьеры.
Я, автор, смотрю на эту сцену как бы из угла сверху, как бы через объектив камеры видеонаблюдения. Вот этот Александр Иванович. Я когда пишу «писатель-проститут», я не вкладываю в это оценочный смысл. Имею в виду только одно: пишет он не по порыву души, а потому, что ему заказывают. Пишет он в одной газете, и ничего стыдного в этом нет.
— Тимур Тимурович, — спрашивает Александр Иванович Положенского, — а вы вот читали, я написал недавно…
Я смотрю через окуляр видеокамеры на этого человека. Женская девушка Виток ему не откажет, конечно. Он это знает. Он думает об этом на манер героя знаменитого фильма, которого играет Джон Траволта. Тот стоял перед зеркалом и уговаривал себя: «Сейчас ты выпьешь один бокал и попрощаешься. Поедешь домой, подрочишь и ляжешь спать». Александр Иванович тоже хотел бы избежать полового контакта. Почему? Случится это если один раз, то случится и два, а потом еще пятьсот раз. Он видел — в дальней комнате Тимура Тимуровича стоит широкий диван, застеленный коричневым покрывалом. Очень легко в этой мглистой, красивой квартире увидеть, как тела Александра Ивановича — худое, смугловатое, с седыми волосами на груди — и девушки Виток — белое, плотное, округлое — будут располагаться, менять положения, подлаживаясь одно к другому.
Герой Траволты, меланхоличный гангстер, не зря заклинал себя: он-то знал, что ничего не получится, и мужской человек от женского не убежит, коли тот того захочет. Сочинявший ту, гангстерскую историю, однако, позволил герою выкрутиться, пустив все действие по другому пути. Еще бы — герой Траволты двигался к своей уже совсем близкой смерти, и в этом движении, конечно, женщина способна была бы остановить его и удержать в жизни.
Не могу ли и я запустить Александра Ивановича прямым путем к гибели? Ему, пьяному, мерещится, что он сделает что-то еще, что-то совсем другое и хорошее, и пока он этого не сделает, Бог не отпустит его с уроков, не заберет.
— Ваш Бог умер! — крикнула однажды Александру Ивановичу девушка Виток.
— Да это ваш Ницше умер, — возражал Александр Иванович.
Так они обменивались этими клише. Собаки, кружащиеся вокруг течной суки, тоже обмениваются ясными, отточенными движениями. Не сказать, что наши клише намного сложней, да и не красивей. Собака лижет гениталии, мы дарим цветы и говорим чушь о Боге и о Ницше.
— Я читал, конечно, вашу статью, — говорит Положенский. — Но я сейчас не хотел бы говорить о ней. Я не согласен с ней, но об этом надо говорить вдвоем, это долго, и, в общем…
Читать дальше
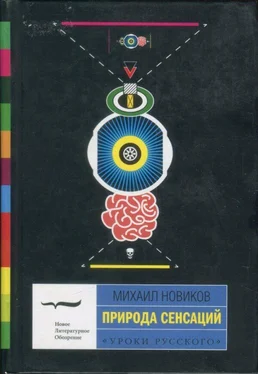
![Михаил Новик - Водяное колесо [СИ]](/books/27148/mihail-novik-vodyanoe-koleso-si-thumb.webp)