– В самом деле, – осторожно сказал я, – как мы можем по-настоящему знать, счастливы ли и до какой степени, коль скоро не знаем, что́ останется и как останется?
– Зная каждую секунду, что не можем да и не пытаемся его удержать, – прошептал Шварц. – Если мы не желаем удержать и схватить его руками, грубой хваткой, разве оно тогда без испуга не остается у нас в глазах? И разве не живет там, пока живут глаза?
Он все еще смотрел вниз на город, где находился еловый гроб и стоял на якоре корабль. На мгновение его лицо словно бы распалось на части, так его исказило выражение мертвой боли; потом оно опять задвигалось, рот уже не был черным провалом, а глаза не были галькой.
Мы продолжили спуск к гавани.
– Господи, – немного погодя сказал он. – Кто мы? Кто вы, кто я, кто остальные и кто те, кого уже нет? Что реально – отражение или стоящий перед зеркалом? Живой или воспоминание, образ без боли? Мы теперь слились воедино, умершая и я, и, может статься, она лишь теперь целиком моя, в этой безотрадной алхимии, в какой она сейчас отвечает, лишь когда я хочу и как я хочу, усопшая, оставшаяся только в легкой фосфоресценции здесь, под моим черепом? Или я не просто потерял ее, но теряю теперь еще раз, каждую секунду понемногу, оттого что воспоминание медленно угасает? Я должен удержать ее, сударь, понимаете? – Он хлопнул себя по лбу.
Мы вышли на улицу, которая длинными уступами вела вниз по холму. Вчера днем здесь, должно быть, состоялся какой-то праздник. Гирлянды, уже увядшие и пахнущие кладбищем, висели на железных штангах меж домами, вдобавок от дома к дому тянулись шнуры с электрическими лампочками, перемежающимися с похожими на тюльпаны большими лампами. Высоко над ними, примерно через каждые двадцать метров, парили пятиконечные звезды из мелких электрических лампочек. Вероятно, все это соорудили для какого-то шествия или для одного из многих религиозных праздников. Теперь, при свете начинающегося утра, декор выглядел убогим и потрепанным, и лишь в одном месте, внизу, что-то, видимо, не заладилось с контактами – там до сих пор горела звезда странно резким, бледным светом, какой бывает у ламп ранним вечером или утром.
– Вот оно, – сказал Шварц, открывая дверь кафе, где все еще не выключили свет. Крепкий загорелый мужчина вышел нам навстречу. Указал на столик. В низком помещении стояли несколько бочек, за одним из немногочисленных столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин мог предложить только вино и холодную жареную рыбу.
– Вы знаете Цюрих? – спросил у меня Шварц.
– Да. В Швейцарии полиция арестовывала меня четыре раза. Там хорошие тюрьмы. Гораздо лучше, чем во Франции. Особенно зимой. К сожалению, сажают максимум на две недели, когда хочешь отдохнуть. Потом тебя выдворяют, и опять начинается пограничный балет.
– Решение открыто пересечь границу что-то во мне освободило, – сказал Шварц. – Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня больше не замирало, я пока что испытывал шок, но совсем легкий, в самый раз, чтобы спустя секунду тем отчетливее осознать свою свободу.
Я кивнул:
– Обостренное ощущение жизни благодаря присутствию опасности. Превосходно, пока опасность лишь маячит на горизонте.
– Вы так полагаете? – Шварц как-то странно посмотрел на меня. – Это идет намного дальше. До того, что мы называем смертью, и еще дальше. Где утрата, если можно удержать чувство? Разве город исчезает, когда покинешь его? Разве не живет в вас, даже если разрушен? И кто знает, что́ есть умирание? Не скользит ли по нашим переменчивым лицам не только неспешный луч света? И разве не было у нас лица, прежде чем мы родились, самого первого лица, того, что должно остаться после разрушения других, преходящих?
Кошка потерлась о стулья. Я бросил ей кусочек рыбы. Она подняла хвост трубой и отвернулась.
– Вы встретились в Цюрихе с женой? – осторожно спросил я.
– Да, в гостинице. Скованность, выжидание, одолевавшее меня в Оснабрюке, стратегия боли и обиды исчезли и не возвращались. Я встретился с женщиной, которую не знал, но любил, с которой меня вроде как связывали девять лет беззвучного прошлого, однако это прошлое не имело над нею никакой власти, не ограничивало ее, не подчиняло себе. Яд времени, казалось, и у Хелен испарился, когда она пересекла границу. Прошлое теперь принадлежало нам, но мы не принадлежали ему; вместо гнетущего образа лет, каким представляется обычно, оно перевернулось и теперь было зеркалом, которое отражало одних только нас, без привязки к нему. Решение вырваться и сам поступок так категорично отделили нас от всего Раньше, что невозможное стало реальностью: новое ощущение жизни, без морщин минувшего.
Читать дальше
![Эрих Ремарк Ночь в Лиссабоне [litres] обложка книги](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-cover.webp)


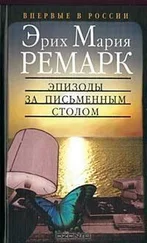
![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](/books/337777/erih-remark-iskra-zhizni-perevod-r-ejvadisa-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)



буквально завтра я делаю себе Шенген, еду в Лиссабон впервые в жизни за той самой.... "жуткой отчаянной надеждой"