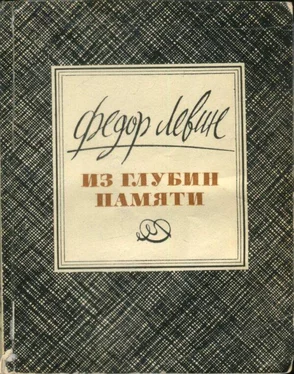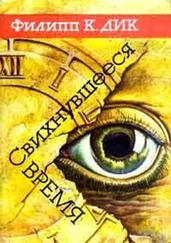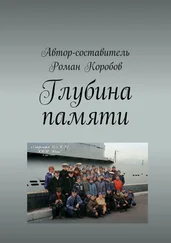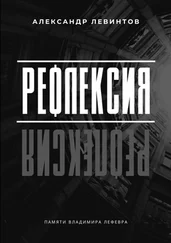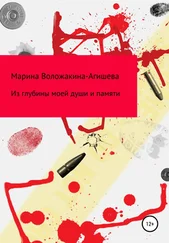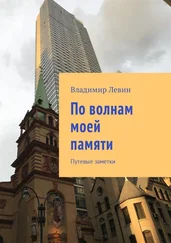— Слушая предыдущего оратора, я вспомнил восточную поговорку: «Если ты глуп, то это навсегда».
Хохот, шум, выкрики. Оскорбленный эсер рвется к трибуне:
— Я протестую, это недопустимо, коллега должен извиниться, взять свои слова обратно.
Луначарский поднимает руку. Шум стихает.
— Я понимаю чувства коллеги, — говорит он. — И я хочу внести существенное исправление: «Если ты глуп, то это надолго».
Можно представить себе, что творилось в аудитории.
Но это, быть может, апокриф. А вот достоверный рассказ, слышанный мною от чудесного человека, ныне уже давно покойного, Михаила Михайловича Францева, который в 1927–1928 годах ведал в Симферополе областным парткабинетом.
«В 1919 году, — говорил Францев, — пришлось мне один-единственный раз быть у Луначарского на приеме в Наркомпросе. Беседа продолжалась полчаса, самое большее сорок минут. И все.
Лет через шесть-семь встретился я с ним на какой-то конференции по вопросам просвещения. Подхожу. «Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Вы, конечно, меня не помните. Я…» Но тут он меня прерывает, кладет руку мне на плечо. «Постойте, постойте, не говорите, я вспомню». Анатолий Васильевич смотрит мне в глаза, видно, напрягает память и медленно говорит: «Ваша фамилия Францев. Зовут вас… Михаил Михайлович… Стойте, стойте. Вы заведовали Курским губоно. Вы были у меня с докладом в 1919 году».
Я стоял перед ним, раскрыв рот от удивления, — говорил Францев. — Боже мой, какая же память у человека. Фотографическая! А Луначарский, очень довольный, посмеиваясь, стал напоминать, о чем мы говорили, что я просил у Наркомпроса и как потом был решен вопрос на коллегии.
Я уже ничего не помнил. А он помнил, хотя и в день приема и на другой день у него наверняка были десятки встреч, разговоров, выступления и другие дела.
И ведь видно было, что ему доставляет удовольствие самому вспомнить человека, его имя, о чем шла речь и прочее».
Рассказ Францева восхитил меня. Я завидовал ему, что он встречался с Луначарским, беседовал с ним. Мне и в голову тогда не приходило, что настанет время — и очень скоро, — когда я своими глазами увижу и своими ушами услышу Анатолия Васильевича.
* * *
В 1930 году я стал слушателем литературного Института красной профессуры.
Помню огромный переполненный зал в здании Коммунистической академии. Луначарский делал доклад по вопросам современной литературы и искусства. Присутствовал весь цвет тогдашних историков литературы, критиков, писателей, режиссеров, артистов, художников, работников печати.
В те времена не было единых союзов писателей, художников, кинематографистов.
В литературной среде было много групп со своими творческими платформами и декларациями, «Перевал», «Литературный центр конструктивистов», «Литфронт», остатки лефовцев, переверзевцев, ВОКП (организация крестьянских писателей). Наибольшую силу тогда, за год-полтора до постановления ЦК партии о создании единого союза писателей, набрала РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Некоторые из лозунагов РАПП теперь вспоминаются с улыбкой, как детская болезнь, но попробовал бы кто-нибудь тогда взять под сомнение вульгаризаторские тезисы о Магнитострое литературы, об одемьянивании литературы, о диалектико-материалистическом творческом методе: на дерзновенного иконоборца тут же обрушились бы все теоретические силы РАПП во главе с Авербахом.
А вот Луначарский ничем этим не смущался. В большой блестящей речи он сказал обо всем не по-рапповски, а по-своему и очень тонко прошелся насчет тех жестких социологических схем, которые то и дело накладываются на живое и многосложное творчество писателей.
В этой речи он и привел ставший знаменитым пример с сороконожкой. «Она отлично бегала и ходила, — говорил Луначарский. — Но ей задали вопрос: что происходит с твоей семнадцатой ногой, когда третья нога опущена на землю, и в каком положении находится в этот момент твоя двадцать шестая нога и двенадцатая нога?» Сороконожка стала думать, что совершается с ее ногами, и… перестала ходить.
Конечно, это было шуткой, а не теоретическим опровержением, и вслед за анекдотом о сороконожке последовала цепь превосходно обоснованных аргументов. Но в шутке было немало яду. Ведь в самом деле: наиболее ретивые рапповцы настаивали на том, что писатель не имеет права писать, пока он не изучит всесторонне курс философии, и они же в своих рецензиях пытались накладывать на художественные образы категории перехода количества в качество, единства противоположностей, общего, особенного, единичного и т. д.
Читать дальше