— Маяковский, — сказал Маяковский.
Он был взволнован.
— Здравствуйте, — сказал я, пролепетал свою фамилию, и мы обменялись рукопожатиями. — Вы писали записку? — пробормотал я. — Секретарь райкома послал меня. Я работник райкома.
— Да, да, — подхватил Маяковский. — Произошла нелепейшая история. Мой вечер сорвали.
— Как сорвали?
— Это провокация, — сказал Владимир Владимирович. И начал рассказывать: — Я пришел на вечер к назначенному времени. Вижу, люди валят из зала мне навстречу, в фойе все бурлит. Увидели меня, орут: «Безобразие!» Я пробиваюсь сквозь толпу, влезаю на стол, кричу: «Товарищи, что случилось? Я здесь, вечер состоится». Ничего не помогает, шум, я, — понимаете, я, — не могу перекричать. Какие-то люди орут: «Долой!» И публика разошлась. Пытаюсь узнать, в чем дело. Оказывается, некий тип влез на сцену и обратился к слушателям: «Вы тут ждете Маяковского, а я шел сюда, вижу, он сидит в ресторане и пьет. Маяковский плюет на вас».
Маяковский вынул платок и вытер лицо.
— Вы понимаете, это же провокация. Я остановился в гостинице, внизу ресторан, я действительно сидел там, жарко, на столе дыня и бутылка сухого крымского вина. И этот тип…
— Что я могу для вас сделать? Как это поправить? — спросил я.
— Я хочу поместить в газете мое письмо. Вечер должен состояться.
— Вы знаете, где редакция «Маяка Коммуны»?
— Найду.
— Идите сейчас туда, — я сказал Маяковскому адрес. — Они будут предупреждены.
Владимир Владимирович поблагодарил и простился. Я пошел к телефону, позвонил в редакцию, объяснил, в чем дело.
«Маяк Коммуны» печатался вечером, а рассылался подписчикам и продавался в киосках на следующее утро.
Однако часов в одиннадцать, выходя из театра или кино, уже можно было купить завтрашний номер. Мальчишки бегали возле Приморского бульвара и кричали: «А вот «Маячок» на завтра!»
К ночи я вышел на улицу и купил газету, в ней уже стояло письмо Маяковского.
Вечер был объявлен вновь и прошел с всегдашним успехом. Но и в этот раз на вечер я не попал.
Только через год мне выпало это ни с чем не сравнимое наслаждение. В Ялте, на открытой сцене, Маяковский вел свой разговор-доклад, читал стихи перед огромной, кипящей страстями аудиторией. Молодежь бурно его приветствовала, пожилые интеллигенты, сохранившие дореволюционное обличие, подавали с места ехидные вопросы, посылали подковыристые записочки. Он отвечал остроумно и хлестко, но дело было не в этих ответах. Главное были стихи. Маяковский читал их, как никто другой, его необычайный голос был слышен в самых дальних рядах (а микрофонов в ту пору не было), каждое слово в его устах приобретало как бы дополнительный заряд взрывчатой силы, освещалось светом личности самого поэта, как бы заново рождалось. Мощь голоса Маяковского, широта его жеста, выразительность интонации, переменный шаг ритма стихов — все это накладывало свою особую печать на слово, строку, строфу. Смысл, казалось бы, известных понятий обновлялся остротой и масштабностью образов, неожиданностью рифм. Слова действительно начинали сиять заново. И когда он кончал читать стихотворение, в аплодисментах объединялись все: и энтузиасты, и скептики. А Маяковский, пользуясь паузой, отпивал глоток чаю с лимоном, вытирал платком лоб и снова начинал работать. Это была великолепная работа.
 Заседание еще не начиналось. Собирались медленно. Редакторы рассаживались на большом кожаном диване, на стульях, громко разговаривали. Я никого не знал, — я впервые присутствовал на редсовете «Федерации». Вытянутая в длину, узкая комната на Копьевском. Лето 1932 года. Жара.
Заседание еще не начиналось. Собирались медленно. Редакторы рассаживались на большом кожаном диване, на стульях, громко разговаривали. Я никого не знал, — я впервые присутствовал на редсовете «Федерации». Вытянутая в длину, узкая комната на Копьевском. Лето 1932 года. Жара.
В дверях появился большой, грузный, седеющий человек в белом летнем костюме. Его я знал, узнал сразу, хотя и не был с ним знаком. Живой, ходячий шарж Кукрыниксов из книги «Почти портреты». Я вспомнил подпись Архангельского.
Это был бард романтизма, почетный рыбовод и птичник, Эдуард Багрицкий.
Пока речь шла о романах, повестях, рассказах, очерках, принимались или отвергались они, Багрицкий почти не слушал, шептался то с одним, то с другим редактором.
Настала его очередь докладывать о прочитанных за декаду стихах. Я услышал его голос, хрипловатый, задыхающийся, стонущий, рыкающий.
Уже тогда я заметил характерную черту Багрицкого-редактора. Он обладал поистине огромными познаниями в поэзии. Но при всем том отвергал только явную писанину, бездарь, графоманство. Если попадалась такая рукопись, Эдуард и в устных и в письменных отзывах был беспощаден, язвителен. Писал очень коротко, десять — двадцать строк, выуживал у автора несколько наиболее нелепых стихов, приводил их в своей рецензии и заключал убийственным резюме.
Читать дальше
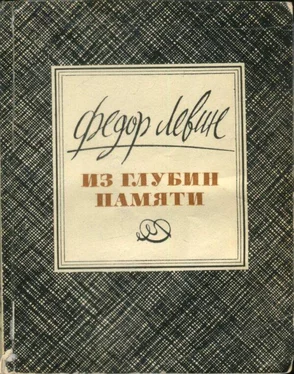
 Заседание еще не начиналось. Собирались медленно. Редакторы рассаживались на большом кожаном диване, на стульях, громко разговаривали. Я никого не знал, — я впервые присутствовал на редсовете «Федерации». Вытянутая в длину, узкая комната на Копьевском. Лето 1932 года. Жара.
Заседание еще не начиналось. Собирались медленно. Редакторы рассаживались на большом кожаном диване, на стульях, громко разговаривали. Я никого не знал, — я впервые присутствовал на редсовете «Федерации». Вытянутая в длину, узкая комната на Копьевском. Лето 1932 года. Жара.








