Я пишу все это вовсе не в виде жалобы; я отнюдь не желаю набросить малейшую тень на людей, которых искренне люблю; я ведь уверен, что, случись со мной настоящее несчастье, они бы употребили все усилия, чтобы спасти меня. Повторяю, в их участии ко мне я не сомневался, но оно было иного рода, нежели то, которое нужно поэту и в котором так нуждался именно я. И самые близкие из моих знакомых не меньше самых строгих моих критиков удивлялись необычайному успеху моих трудов за границей и громко высказывали свое удивление. Фредерика Бремер была весьма поражена этим. В бытность ее в Копенгагене случилось нам встретиться с нею в гостях в одном доме, где меня, по общему мнению, «чересчур баловали»; рассчитывая сообщить обществу нечто приятное, она заговорила о «той необыкновенной любви, которой пользуется Андерсен в Швеции – от Сконии до самого Севера! Почти в каждом доме вы найдете его сочинения!». – «Ну, пожалуйста, не вскружите ему головы!» – ответили ей на это и всерьез.
Много толкуют о том, что дворянство, благородное происхождение ныне не имеет уже значения, – все это одни пустые разговоры. Даровитый студент, бедняк, из простых, редко встречает в так называемых хороших домах тот вежливый и радушный прием, который оказывают разодетому дворянчику или сынку важного бюрократа. Примеров я мог бы привести немало, но удовольствуюсь одним – из собственной жизни. Имен я называть не буду, это безразлично; довольно знать, что дело идет о лице, занимавшем весьма почетное положение.
Король Кристиан VIII в первый раз по восшествии на престол посетил театр; шла как раз моя драма «Мулат». Я сидел в первых рядах партера рядом с Торвальдсеном, и он при падении занавеса шепнул мне: «Король вам кланяется!» – «Нет, это, верно, вам! – ответил я. – Не может быть, чтобы мне!» Затем я поглядел на королевскую ложу; король опять кивнул – именно мне, но я чувствовал, что возможная ошибка с моей стороны страшно отозвалась бы потом на мне, и поэтому остался сидеть неподвижно. На другой день я отправился к его величеству поблагодарить его за такую необыкновенную милость, и он посмеялся тому, что я не сейчас же ответил на нее. Спустя несколько дней в Христиансоргском дворце предстоял бал для представителей всех классов общества. Был приглашен и я.
«Что вам там делать? – спросил меня один из наших маститых представителей науки, когда я заговорил в его доме об этом празднестве. – Что вам делать в подобном кругу?» – повторил он. Я и ответь в шутку: «В этом-то кругу я лучше всего и принят!» – «Но вы не принадлежите к нему!» – сказал он сердито. Мне оставалось только и на это ответить шуткой, как будто я нисколько и не был задет: «Что ж, если сам король кланяется мне из своей ложи в театре, то отчего ж бы мне и не появиться на балу у него!» – «Король кланялся вам из ложи! – воскликнул он. – Да, но и это еще не дает вам права лезть во дворец!» – «Но на этом балу будут люди и из того сословия, к которому принадлежу я! – сказал я уже серьезнее. – Там будут студенты!» – «Да, какие?» – спросил он. Я назвал одного молодого студента, родственника моего собеседника. «Еще бы! – подхватил он. – Он ведь сын статского советника! А ваш отец кем был?» Тут уж меня забрало за живое, и я ответил: «Мой отец был ремесленником! Своим теперешним положением я после Бога обязан себе самому, и, мне кажется, вам бы следовало уважать это!..» И почтенному ученому никогда не приходило на ум извиниться предо мной за сказанное.
Рассказывая о горьких минутах своей жизни, трудно вообще соблюсти должное беспристрастие, трудно не задеть кого-нибудь из тех, кто в свое время больно задел нас, поэтому я и опускаю здесь большинство осушенных мною чаш горечи, а останавливаюсь лишь на нескольких отдельных капельках. Такие остановки нужны для освещения кое-чего в моих произведениях, и они особенно уместны здесь, так как после моего возвращения из второго большого путешествия и появления «Базара поэта» мне вообще зажилось легче. Критика если и не совсем еще перестала поучать меня, то все же стала относиться ко мне лучше; если на челн мой и набегали еще иногда сердитые шквалы, то все же с этих пор он чаще нес меня по спокойной глади житейского моря, и я мало-помалу добивался того признания моих трудов, какого только вообще мог пожелать от своих земляков и какое предсказывал мне Эрстед.
В то время политическая жизнь со всеми ее хорошими и дурными сторонами достигла в Дании уже довольно высокой степени развития. Красноречие, до сих пор полусознательно пробавлявшееся, по примеру известного древнего философа, маленькими камешками во рту, камешками повседневной жизни, теперь свободнее двинулось навстречу высшим интересам. Я, однако, не чувствовал ни способности, ни нужды вмешиваться в политику, да и вообще считаю увлечение политикой пагубным для поэта. Госпожа политика – вот Венера, заманивающая поэтов в свою гору на погибель их. С политическими песнями этих поэтов бывает то же, что с разными летучими листками, которые, чуть появятся в свет, жадно разбираются, читаются – и бросаются. В наше время все хотят править, личность выступает на первый план, но большинство забывает, что многое, хорошее в теории, неприменимо на практике; забывают, что с вершины дерева многое кажется совсем иным, нежели снизу, тем, кто сидит у корней его. Я, впрочем, охотно преклоняюсь перед всяким, будь то князь или простой крестьянин, кто желает лишь блага и способен вести к нему. Политика же не мое дело; Бог определил мне иную задачу, я всегда чувствовал и буду чувствовать это!
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


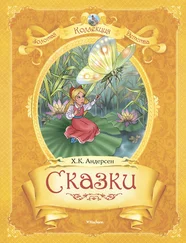

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






