День за днем болезненно-чувствительное настроение овладевало мною все сильнее и сильнее; меня стало больше тянуть к печальным явлениям жизни, я засматривался на теневые ее стороны, сделался раздражительным и более чувствительным к порицаниям, нежели к похвалам. Зародыш такого настроения был посеян во мне моим поздним поступлением в гимназию, форсированным прохождением учебного курса и внутренним и внешним гнетом, заставлявшим меня выпускать в свет недостаточно зрелые произведения. Такая «тепличная выгонка» сильно повредила мне во многих отношениях. В моих познаниях были большие пробелы; особенно хромал я по части грамматики, т. е. главным образом по части общепринятого правописания. «Прогулка на Амагер» пестрела не опечатками, а моими собственными погрешностями в правописании, шедшими вразрез с общепринятыми правилами. Я, конечно, мог бы избегнуть всех неприятностей, поручив читать корректуру кому-нибудь из товарищей-студентов. Я этого не сделал, и все ошибки, которые мог бы исправить любой студент-новичок, были поставлены мне на счет, подали повод к глумлениям и насмешкам. Увлекаясь ими, люди упоминали обо всем хорошем, поэтическом в моих произведениях только вскользь.
Я сам знавал людей, которые читали мои стихи только ради того, чтобы отыскивать в них грамматические ошибки и сосчитать, сколько раз я употребил одно и то же выражение или слово, например «красиво», что выходило, по их словам, уж совсем «некрасиво». Один кандидат богословия (теперь он священником где-то в Ютландии), автор водевилей и критических статей, не постеснялся однажды в одном знакомом доме, в моем же присутствии, разобрать одно из моих стихотворений, что называется, по косточкам; когда он кончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя малютка-девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивавшаяся к такой беспощадной критике каждого слова, взяла книжку и в простоте душевной указала на словечко, говоря: «А вот тут есть еще одно словечко! Его ты не бранил!» Кандидат, должно быть, понял бессознательную иронию малютки, покраснел и поцеловал ее.
Я сильно страдал от такого отношения ко мне; мне казалось, что время школьного гнета опять вернулось, и я все ниже и ниже склонял под этим гнетом свою голову с какой-то непостижимой покорностью, а ведь недаром гласит старинная пословица: «Где изгородь всего ниже, там через нее все и шагают». Да, я был слишком мягок, непростительно добродушен, все знали это, пользовались этим, и некоторые обращались со мной почти жестоко. Сдерживавшие меня поводья зависимости или благодарности необдуманно или бессознательно натягивали иногда уж чересчур. Все поучали меня, почти все твердили, что меня захвалили и что меня надо вылечить, говоря мне в глаза правду. И вот я только и слышал, что о моих недостатках, о моих действительных или мнимых слабостях.
Иногда сердце во мне так и вскипало от всех этих обид, особенно когда приходилось терпеть их со стороны лиц, стоявших в умственном отношении ниже меня и все-таки не стеснявшихся подвергать меня в своих богатых гостиных уничтожающей критике; я выходил из себя, разражался слезами и с жаром восклицал, что из меня все-таки выйдет известный, признанный поэт! Такие слова подхватывались и разносились по городу; в них видели зародыш, готовый принести недобрые плоды высокомерия и скудоумия. «Он олицетворенное тщеславие, – отзывались обо мне люди и тут же, однако, прибавляли: – И сущий ребенок!» А как раз в это время я часто наедине с собой отчаивался в самом себе. Я все больше и больше терял веру в себя и в свои дарования, я слагал в своем сердце все порицания и, как, бывало, в гимназии, готов был думать, что весь мой талант – одно самообольщение. Сам я был склонен поверить этому, но слышать об этом от других все-таки не мог, и тогда-то у меня и вырывались гордые необдуманные слова; их, как сказано, подхватывали и потом ими же бичевали меня. А в руках тех, кого зовешь своими близкими, дорогими друзьями, такие бичи становятся ведь скорпионами.
Коллин нашел, что небольшое путешествие будет мне очень полезно, что мне следует хоть на несколько недель окунуться в житейское море, побыть среди других людей, в иной обстановке и набраться новых впечатлений. У меня же, кстати, была скоплена небольшая сумма денег, вполне достаточная, чтобы совершить поездку в Северную Германию.
Было это весной 1831 года; я в первый раз выехал за пределы Дании, увидел Любек и Гамбург. Все поражало, занимало меня. Железных дорог там тогда еще не существовало, широкий почтовый тракт шел через Люнебургскую степь. Я добрался до Брауншвейга, в первый раз узрел горы (Гарц) и пешком совершил путь от Гослара через Брокен до Галле. Передо мной как будто открылся новый, диковинный мир. Ко мне вернулся мой юмор; он, словно перелетная птичка, вернулся в свое гнездо, которое в его отсутствие занимал воробей-тоска. На вершине Брокена я набросал в книгу для записей туристов следующее четверостишие:
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


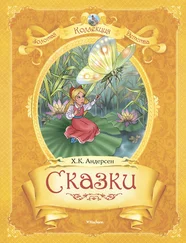

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






