Начало весны в этот год было дивно прекрасно; меня встретили в Сорё зеленый лес и пение соловьев, но скоро роскошь природы потеряла для меня всякую прелесть. Настали скорбные, мрачные дни: в Копенгагене разразилась холерная эпидемия. Меня уже не было тогда в Зеландии, но я получал вести об ужасах эпидемии и о ее жертвах. Одною из первых жертв был пастор Бойе; я был в несказанном горе; в последние годы мы так сблизились, я так полюбил его.
Но самым горестным, несчастнейшим днем был для меня в эту тяжелую пору день, который я именно предполагал провести в радости и веселье. Я гостил в Глорупе, и граф Мольтке-Витфельд собирался праздновать свою серебряную свадьбу. Из посторонних на этот праздник был приглашен один я – еще за год до того. На торжество собралось что-то до тысячи шестисот окрестных крестьян, начались танцы, веселье… Гремела музыка, развевались флаги, взлетали ракеты, а я в самый разгар праздника получил известие о смерти еще двух друзей. И на этот раз ангел смерти посетил тот дом, что был для меня роднее родного, – дом Коллина!
«Все мы, – говорилось в письме, – переехали в другое место, но Бог знает, что будет с нами завтра!» И мне показалось, будто я скоро лишусь всех, к кому было привязано мое сердце… Я горько плакал у себя в комнате, а кругом весело гремела музыка, слышался топот танцующих, крики «ура», треск ракет… Сил не было вынести все это! Ежедневно получались новые скорбные вести; холера свирепствовала и в Свендборге, и мой доктор и все друзья мои советовали мне оставаться в провинции. В Зеландии у меня немало было друзей, радушно предлагавших мне свое гостеприимство.
Большую часть лета я провел в Силькеборге у Михаила Древсена. Но, несмотря на самое сердечное гостеприимство, которым я там пользовался, несмотря на всю прелесть окружавшей меня природы, я находился в самом угнетенном состоянии. Больше всего мучила меня неизвестность относительно судьбы дорогих мне лиц. И как только эпидемия несколько стихла, я поспешил опять вернуться к своим друзьям в Копенгаген.
Весной, еще до начала эпидемии, умер мой датский издатель Рейцель. Деловые отношения между нами перешли с годами в тесную дружбу. Незадолго до смерти он решил предпринять дешевое издание собрания моих сочинений. В Германии такое собрание вышло уже лет семь тому назад; к нему-то и была приложена «Das Märchen meines Lebens». Несмотря на то, что она представляла, в сущности, лишь набросок «Сказки моей жизни», она возбудила за границей большой интерес, и в «Magasin für die Literatur des Auslandes» появился о ней весьма сочувственный отзыв, в котором очерк мой ставился наряду с «Wahrheit und Dichtung» Гёте, «Исповедью» Руссо и «Жизнью» Юнга Штиллинга. В Англии и Америке «Das Märchen meines Lebens» была принята так же сочувственно. Теперь же мне выпало на долю счастье издать собрание моих сочинений и на родном языке, притом в такие годы, когда я еще сохранил свежесть и бодрость духа. Для меня это было тем важнее, что я мог сам привести все в порядок и выбросить кое-какие засохшие ветви; автобиография же моя могла дать всем моим трудам надлежащее освещение. При этом я не захотел удовольствоваться перепечаткой очерка, изготовленного мною для немецкого издания, а написал мою автобиографию заново, под свежим впечатлением пережитого. Я надеялся, что краткие характеристики множества выдающихся личностей, с которыми мне приходилось сталкиваться, и описание впечатлений, вынесенных мною из жизни и окружающей меня обстановки, могут представить для потомства некоторый исторический интерес, равно как простое безыскусственное повествование о вынесенных мною испытаниях может послужить источником утешения и ободрения для молодых еще борющихся сил.
Осенью 1853 года я приступил к работе. В октябре этого же года как раз минуло 25 лет с того времени, как я сдал университетский экзамен. В последние годы вошло в обычай праздновать такие – если можно так выразиться – серебряные студенческие свадьбы. Интереснее всего в этом торжестве показалась мне встреча со многими старыми товарищами, с которыми давным-давно не приходилось встречаться. Некоторые растолстели до неузнаваемости, другие состарились и поседели, но глаза у всех горели в эту минуту прежним юношеским блеском. Эта встреча была для меня букетом всего торжества. В числе тостов был провозглашен проф. Клаусеном общий тост за Паллудана-Мюллера и меня, «за двух поэтов одного выпуска, которые успели занять прочные и почетные места в датской литературе».
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


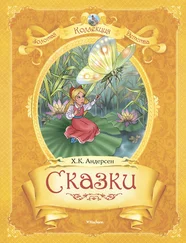

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






