Она, впрочем, ходила смотреть эту пьесу, так же как и «Оле-Лукойе», но совсем по особой причине. Однажды в жестокую вьюгу вернулись из школы, находившейся далеко, в Кристиановой гавани, только два старших ее сына, младший же, совсем еще ребенок, как-то отстал от них, и мать была вне себя от страха. Как раз в эту минуту пришел я и, узнав, в чем дело, сказал, что сейчас же пойду и разыщу пропавшего. Она знала, что я был не совсем здоров да и вообще не охотник бегать в такую даль, и мое желание помочь ей в беде (как будто я мог поступить иначе!) так ее тронуло, что она, как сама рассказывала мне потом, ходя в волнении взад и вперед по комнате, сказала себе: «Это просто бесподобно с его стороны! Надо мне пойти на его «Дороже жемчуга и злата». А если он приведет мне моего мальчика, так и быть – пойду и на «Оле-Лукойе». Да, да, уж пообещала, так пойду, хоть это и ужасно!»
И она пошла на представления, много смеялась, а потом рассказывала о виденном куда забавнее, чем были самые пьесы. У нее было также большое музыкальное дарование, и много ее прекрасных композиций вышло в свет, но без ее имени. Никто также лучше ее не понимал и не ценил самого Гартмана; она предвидела его будущую славу и значение, которое он будет иметь за границей, и во время разговора об этом лицо ее, вообще такое веселое, подвижное, вдруг принимало серьезное, почти торжественное выражение. В одну из последних наших бесед, я помню, мы говорили о книге Эрстеда «Дух в природе» и о бессмертии. «Подумаешь, представишь себе это – голова кружится; это почти не по силам нам, людям! – говорила она. – Но я все-таки верю в бессмертие, надо верить в него!» И глаза ее загорелись, но в ту же минуту на губах заиграла улыбка, и она принялась трунить над негодным человечеством, воображающим соединиться с Господом Богом!»
Но вот настало печальное утро! Гартман обнял меня и со слезами сказал: «Она умерла!»
И в самый час кончины матери внезапно захворал ее младший ребенок, дочка Мария. В сказке «Старый дом» я нарисовал ее; это она-то, когда ей было два года, принималась плясать, как только, бывало, заслышит музыку или пение. В самый час кончины матери склонилась как подкошенная и ее маленькая дочка, как будто мать попросила Бога: «Дай мне с собою одного ребенка, самого младшего, который не может обойтись без меня!» И Бог внял ее мольбе. Девочка умерла в тот же вечер, когда вынесли в церковь гроб ее матери, и через несколько дней рядом с большой могилой появилась маленькая. Один из венков, украшавших могилу матери, еще свежий и зеленый, казалось, тянулся к долгожданной гостье.
В гробу маленькая девочка смотрелась взрослой девушкой; никогда не видел я более живого изображения ангела! У меня навсегда запечатлелся в памяти один ответ ее, звучавший почти слишком не по-земному невинно. Ей было тогда всего три года; раз вечером ее позвали купаться, и я в шутку спросил ее: «А мне можно с тобой?» – «Нет! – ответила она. – Теперь я маленькая; вот когда вырасту, тогда можно!»
Смерть не лишает человеческое лицо красоты, напротив, иногда даже возвышает ее; некрасиво лишь разложение тела. И никого не видел я в гробу красивее, благороднее Эммы Гартман; по лицу ее было разлито выражение какого-то неземного спокойствия, как будто душа ее стояла в эту минуту перед престолом Всевышнего. От рассыпанных вокруг нее цветов разливался чудный аромат. «Никогда в жизни не уязвила она ни одного человека, никогда не умаляла она в своих суждениях ничего достойного похвалы, никогда не позволяла клевете коснуться уважаемого имени. Она не взвешивала боязливо своих слов, не опасалась, что их могут перетолковать в дурном смысле люди, не отличающиеся ее откровенностью и чистосердечием!» И эти слова, сказанные у ее могилы, дышали истиной.
Через четыре дня я лишился и Эрстеда. Перенести еще и этот удар было мне почти не под силу. В этих двух умерших я терял бесконечно много. Эмма Гартман своей задушевной веселостью, жизнерадостностью, бодростью духа ободряла и подкрепляла мой дух; я искал ее общества, как цветок лучей солнца! А Эрстеда я знал почти с первых же моих шагов в Копенгагене, любил в течение стольких лет, как одного из людей, принимавших самое близкое участие во всех моих горестях и радостях.
В последнее время я то и дело переходил от Гартмана к Эрстеду, от Эрстеда к Гартману, но у меня и в мыслях не было, что я так скоро лишусь того, кто был моей постоянной поддержкой, моим утешением в тяжелой борьбе с обстоятельствами и духовными невзгодами. Эрстед был еще так молод душой, так радостно-оживленно беседовал о предстоящем летнем отдыхе в отведенном ему городом помещении в Фредериксбергском саду. Год тому назад, осенью, праздновали его юбилей, и город отвел ему и его семье в пожизненное владение дом, в котором жил последние годы Эленшлегер. «Мы переедем туда, как только на деревьях появятся почки и выглянет солнышко!» – говорил он, но уже в первых числах марта слег в постель; мужество и бодрость духа, однако, не покидали его. Жена Гартмана умерла 6 марта. Сильно огорченный пришел я в этот день к Эрстеду и тут узнал, что и его смерть близка! У него было воспаление легких. «Он умрет!» – твердил я про себя, а сам-то он думал, что ему лучше. «В воскресенье я встану!» – сказал он. В воскресенье он предстал перед лицом Всевышнего!
Читать дальше
![Ганс Андерсен Сказка моей жизни [litres] обложка книги](/books/396955/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres-cover.webp)


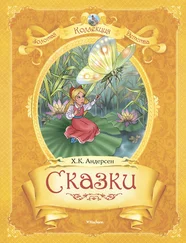

![Ричард Холл - MOBY. Саундтрек моей жизни [litres]](/books/409826/richard-holl-moby-saundtrek-moej-zhizni-litres-thumb.webp)






