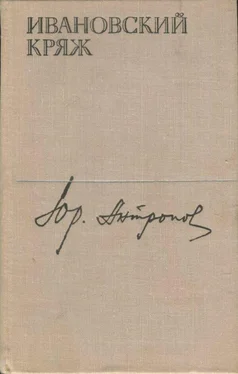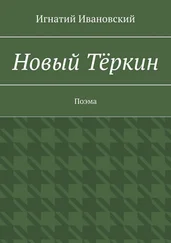Старик потупился.
— Да-а… — протянул он. — Иной раз смотришь и думаешь: «Ведь все вроде есть у человека — и молодость, и сила, и достаток… А чего он тогда беспокоится, мечется, стремится еще к чему-то?»
Венька молчал, нетерпеливо поглядывая на гребешки волн, которые уже потеребливал поднимающийся ветер.
— Ну, плыви с богом, — со вздохом сказал старик. Он снял с себя матерчатую шапку и латаную шубейку и, смущая до слез Веньку, попробовал всунуть ему в руки. — Бери-бери, а то обижусь. Я-то в тепле тут. Да и телогрейка на худой конец есть.
— Да что ты, Максимыч! Все в порядке! — Венька порывисто приобнял старика за худые плечи и быстро сбежал с берега.
Они уже сидели в лодках, веслами проталкиваясь сквозь припай, а старик все еще стоял на обрыве — в одной рубашонке, неровно заправленной в штаны. Шубейку он держал в руках, все еще, видимо, жалея, как бы не прогадал этот парень, бездумно-нерасчетливый по молодости.
— Ты иди, иди, Максимыч! — крикнул Венька. — А то застудишься, чего доброго.
Старик согласно кивнул, а сам нагнулся и, по-прежнему глядя им вслед, стал гладить ушастую, вздрагивающую на ветру собаку.
Как никогда прежде, Веньку вдруг охватило странное состояние, слова Максимыча запали ему в сердце, угодив в самое больное место. «Ведь все вроде есть у человека, — как бы случайно обронил старик, — и молодость, и сила, и достаток… А чего он тогда беспокоится, мечется, стремится еще к чему-то?»
Лодки шли по Иртышу одна за другой. Бондарь опять отстал на своем «Прогрессе», и Венька, уступив место у руля Ивлеву, горбился на носу лодки, развернувшись боком так, чтобы и вперед-то поглядывать, и курвет шефа из виду не упускать. Под рев мотора, будто уносивший его, Веньку, в недавнее прошлое, он вспоминал, как еще нынешней весной ему казалось, что все в его жизни идет с налаженным постоянством, не хуже комбинатовской «шестерки», которая ходила почти минута в минуту, по заведенному раз и навсегда расписанию. Одно и то же повторялось у него каждый день. Сразу после работы он торопился домой, включал телевизор, что-нибудь жевал всухомятку, дожидаясь Зинаиду, и, вяло потом поужинав и перебросившись с нею словом-другим, тотчас засыпал, покоряясь вынужденной привычке рано ложиться в постель, чтобы чуть свет бежать на первый автобус, которым добирался до завода без всякой давки, чего просто не мог терпеть.
Он так втянулся в этот замкнутый круг, что не знал, куда девать себя в выходные дни, и мучительно пережидал это пустое время, чтобы снова бежать на завод. В какой-то момент ему стало уже казаться, что торопится он в свой цех вовсе не из-за транспорта — его манила вчерашняя неоконченность чего-то дельного и стоящего, которая требовала от него той особой сноровки и смекалки, какая не часто проявлялась в других. Он поэтому ждал тех дней, когда в цехе случалось какое-нибудь чепе. Мысленно совестясь этого своего желания, за которым нередко могли стоять и чьи-то судьбы, трезво считая его несовместимым с той аварийной работой, для которой и была предназначена их бригада слесарей, Венька тем не менее уже определенно знал, что в такие дни он будет исподволь полниться ощущением собственной значимости, незаменимости его в каком-то конкретном деле. Это ожидание такого его состояния уже заранее будоражило Веньку, настраивая на четкий ритм и как бы на особую чистоту жизни, и если что-то и принято называть счастьем, то вот это его состояние им и было.
Однако весной он вдруг ощутил, что на одних чепе далеко не уедешь. И чем длиннее становились между ними паузы, тем все более тягостной оказывалась для Веньки его служба в аварийной бригаде. Разная мелкая работа, конечно, не переводилась, но уже сама мысль, что с этим попутным, случайным делом, которым их загружали как бы для того только, чтобы они не обленели совсем, может вполне справиться слесарь-наладчик и более низкого разряда, приводила Веньку в бешенство.
Как раз в это время и подвернулся ему Бондарь. Напел он ему тогда много — Венька знал только уши развешивал. И ведь соблазнил-таки его Бондарь! «Где наша не пропадала!» — подхлестнул тогда себя Венька, втайне радуясь этому хоть и малому, но все же новому в своей жизни.
Почти полгода он отдал проклятым бочкам. Ох, и осточертели же они ему: и гофрированные, и гладкобокие, и громадные, и маленькие — под титановую краску, его, так сказать, детище. Век бы их не бывало!
Спасла Веньку старикова лодка. После смены, когда солнце висело еще высоко, он стал ездить прямо с завода на причал, как другие бегают в детсад за ребятишками. Первым делом, прежде чем открыть кабинку с мотором, он спускался на галечниковую отмель и, перепрыгивая через причальные цепи, тянувшиеся от воды к самому обрыву, вдоль которого была протянута по земле проволока, высматривал свою лодку. Каждый раз ее сдвигали то в одну сторону, то в другую. Днем на причале хозяйничали отпускники, не знавшие привычки ставить свои лодки на одно и то же место, — приткнутся, где случится, и довольны. К тому же часто сбрасывала воду ГЭС над городом, и тогда вода поднималась до метра, притопляя галечник, и подбиваемые волной теплоходов лодки скользили на цепях вдоль берега, пока крайняя не натягивалась у конца проволоки. Еще издали, среди многих таких же свинцово-серых, Венька безошибочно узнавал свою «Казанку». Вспрыгнет на нос, посидит немного, спустив босые ноги в реку, — и уже хорошо на душе, уже можно и делом заняться. Все собирался последнее время заново покрасить ее, да что-то удерживало — вдруг жалко становилось каждую царапинку на ней, которая хранила в себе какую-нибудь свою тайну.
Читать дальше