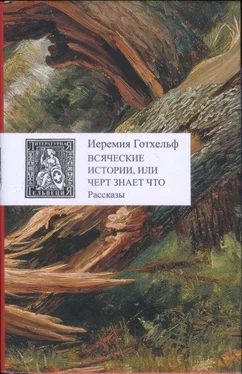Над землей под покровом тумана забрезжил святой день, но солнце рождения Господа не пробилось в сердце Агнес, на душе у нее был туман; там обитал сумрак времени, сумрак нужды, сумрак вдовства, когда нечем кормить детей, великая нужда женщины, муж которой пожирает все, что она сберегла для детей. И пока еще утренние сумерки были погружены в туман, она поднялась, взвалила на усталые плечи дневную свою ношу, сама отперла ворота, чтобы послать девку за коровьим молоком. Но едва створка подалась, как к ее ногам упало тяжелое тело, — перед ней в беспамятстве лежал Курт. Она не вскрикнула — нервы ее были слишком закалены, но все же очень испугалась; ей показалось, он убит и его тело подбросили сюда, чтобы замести следы. Впрочем, скоро она убедилась, что он еще жив, но охвачен ужасной болезнью. Она затащила его внутрь, позаботилась о нем, но снова и снова присаживалась смерть на его ложе, да только напрасно; Агнес одержала победу, к Курту вернулось сознание, но поначалу с большой опаской. Последние события снова встали перед его душевным взором, и когда он очнулся, его вновь обуял ужас и лихорадка вновь завладела его мыслями. Но наконец жар унялся, светлые мгновения взяли верх, мысли путались все меньше, он снова мог говорить, причем так, что его можно было понять. Он осведомился о коне, но о нем ничего известно не было, никто о нем не слышал, не видел его трупа, как его ни искали. Он пожелал знать, где его нашли, но не поверил в то, что ему рассказали.
Часто спрашивала его жена, как он добрался до ворот замка; долго не хотел он отвечать, но постепенно, благодаря заботе, сердце его смягчилось, сделалось отзывчивее, чем от сентиментальных нежностей, которых он не терпел, и тогда он рассказал Агнес, что стряслось с ним по пути домой в ночь на Рождество. Он рассказал, что за видения его посетили, чего он натерпелся и что видел под конец; но как очутился у ворот, этого он не знал и объяснить не мог.
Особенных сердечных излияний о прошлом и будущем ни от Агнес, ни от Курта не последовало, все это в ту пору еще не вошло в моду и ни один из них не был к этому склонен, но Курт впервые почувствовал, как хорошо дома, словно в натопленной комнате после снежной бури; он впервые почувствовал, какая хорошая и прилежная у него жена, он впервые познал радость отцовства и гордость, какую испытывает отец, наблюдая за детьми, и слушать их лепет было единственной его отрадой; можно даже сказать, он только теперь по-настоящему узнал своих детей. Болезнь не прошла бесследно, за выздоровлением последовала длительная слабость, ничто не влекло его из дому, он впервые остался дома надолго, увидел, как обстоят дела, и привязался к дому, полюбил родных, начал участвовать в их жизни, помогал детям плести сети и ставить силки, обучил их искусству охоты и рыбной ловли, а еще — обращаться с оружием, и множеству хитростей в лесу и в поле, на болоте и в ручьях. Восторгу детей от этих искусств, секреты которых раскрыл им отец, удивлению от его умений, радости, с какой они все перенимали, не было предела, все это укрепило связь между отцом и детьми, и эти узы было уже не разорвать, потому как и они только теперь по-настоящему узнали отца, ловкость и сила которого их поразила. Все, чему он их обучил, скрасило их жизнь. Все, чего требовала от них мать, они переняли от отца, а до этого все их усилия никак не могли привести к удовлетворению матери, теперь же малые их старания приносили богатые плоды.
Агнес наблюдала за всем этим с огромной радостью, но ни разу не проронила ни слова; не потому, что знала, что излишней похвалой часто достигается противоположный эффект, а потому, что все это казалось ей совершенно естественным, а длительные нотации и проповеди тогда, опять же, были еще не в моде.
Курт привык к дому, ощутил себя полноценным его хозяином, научился чувствовать его радости и горести, дом словно бы стал его вторым телом, и чем больше проходила его слабость, тем больше принимал он участия в жизни своих ребятишек, помогал им ловить диких уток, показал им лучшие места для ночевок, засад на дичь, что собиралась на водопой или в поле. Эта полная радостей жизнь, схожая с весной, когда каждое утро появляется нечто новое, будь то цветок или травы, приносила Курту все больше радости, она не имела ничего общего с необузданной и дикой жизнью, что он вел раньше, где не было ничего, кроме распрей и гнева, единственным содержанием которой был разбой. Чем больше радостей сулила эта новая жизнь, тем более пугающими представлялись ему воспоминания о ночи накануне Рождества; и хотя с течением времени такие воспоминания бледнеют, ему с каждым днем становился все яснее и понятнее тот урок, что был преподан ему в тот страшный час, воспоминание это было еще совершенно живо, и каждый раз волосы у него вставали дыбом, а спина холодела от ужаса. Он не часто погружался в размышления, но все ж таки думалось ему, что все это произошло не просто так, а имело для него особое и совершенно определенное значение, будто бы сам дьявол и его приспешники должны были его схватить и погубить, но что-то спасло его, вырвало из их лап, и при этом уже навсегда. Был ли то серебряный крестик, что он тем утром сорвал с шеи мельника да забыл проиграть, и так и носил при себе, а может, и ангел-хранитель в лице жены, — этого он не знал, да и как удалось ему добраться до ворот замка, не понимал; должно быть, его все-таки доставил туда ангел. Во всей округе больше всего дичи водилось именно неподалеку от колодца в Бахтеле, но вполне понятная робость не позволяла ему показать это место детям, потаенный ужас находил на него всякий раз, стоило ему лишь подумать о нем. Чувство у него было такое же, как у ребенка, что содрогается телом и душой, слушая страшные истории, забивается в самый темный угол и все же следует за непреодолимой силой, что тянет его к таким историям, и все не может наслушаться; так и Курта, несмотря на содрогание, тянуло к колодцу; ему любопытно было посмотреть, не осталось ли каких-нибудь следов ужасного ночного происшествия. Кроме того, тянуло Курта к этому месту еще и удивительное свойство человека испытывать странное наслаждение от всего загадочного, непонятного и жуткого.
Читать дальше