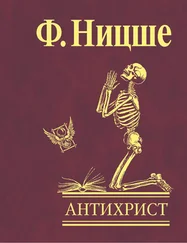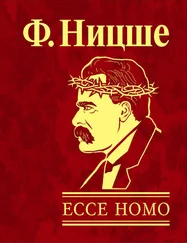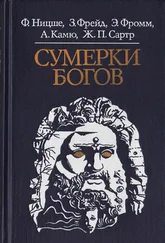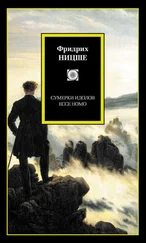53
– Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо, – в этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает миру то, что считает он истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая тупость в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается скромность, осторожность относительно этих вещей. Знать немногое, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше… «Истина», как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист, каждый церковник, – есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала той дисциплины духа и самопреодоления, которое необходимо для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории: они соблазняли… Умозаключение всех идиотов, включая сюда женщин и простонародье, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть (или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством), имеет за себя что-нибудь, – такое умозаключение было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмотрительности. Мученики вредили истине. Даже и в настоящее время достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать почтенное имя самому никчемному сектантству. – Как? разве изменяется вещь в своей ценности только оттого, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? – Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна, – не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи? – Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик; так же опровергают и теологов. Всемирно-исторической глупостью всех преследователей и было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества… До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. Разве же крест аргумент? Но относительно всего этого только один сказал то слово, в котором нуждались в продолжение тысячелетий, – Заратустра.
Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.
Но кровь – самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.
А если кто и идет на огонь из-за своего учения – что же это доказывает! Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение.
54
Пусть не заблуждаются: великие умы – скептики. Заратустра – скептик. Крепость, свобода, вытекающие из духовной силы и ее избытка, доказываются скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение – это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь под собой: а между тем, чтобы осмелиться говорить о ценностях и неценностях, нужно оставить под собой, за собой пятьсот убеждений… Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений – это сила, это способность смотреть свободно… Великая страсть, основание и сила бытия духа еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуется всецело его интеллектом: она заставляет его поступать, не сомневаясь; она дает ему мужество даже к недозволенным средствам; она разрешает ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждение как средство: многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им – она считает себя суверенной. – Наоборот: потребность в вере, в каком-нибудь безусловном Да или Нет, в карлейлизме, если позволительно так выразиться, – есть потребность слабости. Человек веры, «верующий» всякого рода, – по необходимости человек зависимый, – такой, который не может полагать себя как цель и вообще полагать цели, опираясь на себя. «Верующий» принадлежит не себе, он может быть только средством, он должен быть использован, он нуждается в ком-нибудь, кто бы его использовал. Его инстинкт чтит выше всего мораль самоотвержения; все склоняет его к ней: его благоразумие, его опыт, его тщеславие. Всякого рода вера есть сама выражение самоотвержения, самоотчуждения… Пусть взвесят, как необходимо большинству что-нибудь регулирующее, что связывало бы их и укрепляло внешним образом, как принуждение, как рабство в высшем значении этого слова, – единственное и последнее условие, при котором преуспевает слабовольный человек, особенно женщина, – тогда поймут, что такое убеждение, «вера». Человек убеждения имеет в этом убеждении свою опору. Не видеть многого, ни в чем не быть непосредственным, быть насквозь пропитанным духом партии, иметь строгую и неуклонную оптику относительно всех ценностей – все это обусловливает вообще существование такого рода людей. Но тем самым этот род становится антагонистом правдивости, – истины… Верующий не волен относиться по совести к вопросу об «истинном» и «неистинном»: сделайся он честным в этом пункте, это тотчас повело бы его к гибели. Патологическая обусловленность его оптики из убежденного человека делает фанатика – Савонаролу, Лютера, Руссо, Робеспьера, Сен-Симона, – тип, противоположный сильному, ставшему свободным духу. Но величавая поза этих больных умов, этих умственных эпилептиков, действует на массу, – фанатики живописны; человечество предпочитает смотреть на жесты, чем слушать доводы…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу