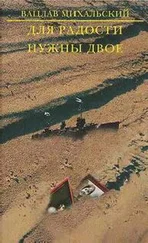— А я, Дарочка, не одна, — когда сквозняк вытянул копоть и чад, сказала Ганечка, — с гостем!
«Еще новость, час от часу не легче!»
— А где же гость-то?
— Он там, Дарочка, внизу, у подъезда, стесняется. Сразу войти отказался, меня послал посмотреть, может, говорит, не ко времени. До старости такой же стеснительный остался, безотказный, меня сейчас лечит. Вы, говорит, Ганечка, пойдите посмотрите. Вот видишь. Он как чувствовал.
— Гриша? Зачем? Ганечка, зачем ты его привела? — заметалась по комнате Дарья Семёновна. — Нет, нет, Ганечка, нельзя, скажи, что меня нет дома, что уехала к детям. Я не могу его видеть, не могу, и копоть, и я не одета… — С ужасом и омерзением Дарья Семеновна заметила вдруг свой большой рыхлый живот, тяжелые отечные ноги, увидела, будто в первый раз, коричневые, сморщенные руки. Она вдруг ощутила все пеньки своего беззубого рта и страстно пожалела, почему же, ах, почему она давным-давно не вырвала эти заросшие деснами пеньки, почему не вставила вот такие ровные и белые зубы, какими щеголяла сейчас Ганечка? Она вдруг увидела себя со стороны и ужаснулась. Как она ни старалась, она не могла вобрать в себя живот, не могла свои серые подстриженные космы превратить в золотые косы. Она ничего не могла, а сердце, больное, усталое, так часто и так нестерпимо болевшее сердце, привыкшее к валидолу и к горчичникам, стучало тяжело и гулко. Уже давным-давно ей было глубоко безразлично, как она выглядит, а сейчас… сейчас она металась по комнате и — никто бы ей не поверил, не понял бы ее — сейчас она, старая женщина, для себя самой стала молоденькой девушкой.
Там, внизу, ждал встречи с нею не старик, перенесший инфаркт и считавший второй этаж самой большой высотой для себя… Нет, там был Гриша, её жених, её любовь, её мечта и горе, Гриша, которого она сама отвергла, которому сама изменила, но которого верно и свято любила всю жизнь, любила и берегла в своём сердце память о нём вместе с памятью о Катеньке, любимой сестре. Катенька… Вот её портрет, она смеется, да, она смеётся: «Не робей, Дарочка, ты ведь для него всё равно та же, не робей!».
А в квартиру в открытую дверь уже входили Евгений Евгеньевич и он, Гриша.
— Дарочка! Смотри, кого я тебе привёл, нет, ты посмотри, кого я тебе привёл! Раскошеливайся на коньячок — тут простой поллитрой не откупишься! — весело и громко кричал Евгений Евгеньевич, подталкивая гостя впереди себя. — Подхожу, стоит у подъезда старичок-боровичок, а ведь узнал я его сразу. А ты-то, Гриша, её узнаешь? Смотри, какая она у меня пышная стала, — и он дурашливо шлепнул Дарью Семёновну пониже талии. Зубы вот только подвели, да ты, Дарочка, не серчай, мы тебе в рот заглядывать не будем, ты нам закусочки поскорее сообрази. Вишь, Гриша, как мы знатно живём. Не квартира, а люкс — две комнаты, кухня, ванна, туалет — одно удовольствие. Живи — не хочу! И служба у меня приличная, и пенсия ничего. Ну, давай, давай пошевеливайся! — обернулся он к Дарье Семёновне. — Смотри, Гриша, она речи лишилась, а ты, шельмец, говоришь, стариком стал, а сам, небось, действуешь, а? Ха-ха! Да что ж вы руки друг другу не подадите? Да ты садись, Гриша, садись. Вот на диван-кровать садись. Не бойся, что новый, для такого гостя, как ты, не жалко. Ладно, не буду вас смущать, поищу музыку, музычку, музычоночку, — суетливо потирая пухлые ладони, бросился он к радиоприёмнику. Включив приёмник, ловко отыскал «музычоночку» и открутил на всю катушку — он обожал всё громкое.
«Жил да был чёрный кот за углом», — сотрясая квартиру, заорал радиоприёмник.
Тяжелая, жуткая ненависть сдавила горло Дарьи Семёновны. Ненависть, что в молодости била её, словно тропическая лихорадка. Приглушенная каждодневной суетой, заботой о том, как и чем накормить большую семью, бесконечными хлопотами о детях и внуках, болезнями, усталостью, ненависть молодости снова вспыхнула в ней с прежней силой. В первый же год замужества упала с её глаз пелена; она не знала не только настоящего, но даже выдуманного счастья. Евгений Евгеньевич оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. Кичливый и трусоватый позёр, столкнувшись с первыми же реальными трудностями, почувствовав всю суровость и ответственность революционной борьбы, он отошёл от неё, прикрываясь громкими фразами о том, что он, отец детей, не может рисковать своей жизнью, потому что это самая жизнь принадлежит теперь не ему, а его детям. В первый же год замужества у неё родились близнецы — двое сыновей, а ещё через полтора года — дочь. В это время умерла первая жена Евгения Евгеньевича, и Дарочка заставила его поехать в детдом и забрать троих его детей. Так шестерых и воспитывала, стараясь всех любить ровно. Шестерых боялась осиротить… Всю жизнь только и делала, что ограждала их от отца. Дети — это было её государство, смысл жизни. И все шестеро выросли хорошими, добрыми, стоящими людьми. Все шестеро, и свои и «чужие», пошли характером, как говорил Евгений Евгеньевич, «в мамочку». Когда они были маленькие, он их тиранил по пустякам, а когда выросли, стал заискивать перед ними. Все дети его не любили, но никто из них открыто не высказывал своей непрязни. Одна лишь Катенька, внучка, не скрывала от деда своего презрения, хотя он лебезил перед нею больше, чем перед всеми другими, заискивал и всячески угождал ей. Катенька была, пожалуй, единственным человеком во всей жизни Евгения Евгеньевича, которого он любил искренне, любил умильно; и угождать ей, и унижаться перед ней ему доставляло высшее наслаждение.
Читать дальше