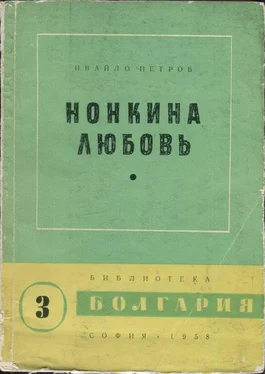Когда Нонка дежурила ночью, она брала какую-нибудь книжку и читала вслух. Дед Ламби слушал, попыхивая папироской. Постепенно глаза у него затуманивались, голова опускалась на грудь, и он начинал дремать. Тогда Нонка дотрагивалась до его плеча со словами:
— Дедушка, иди ложиться!
Он просыпался, звучно и сладко зевал и протирал глаза.
— Я, кажется, соснул, а? Чтоб им пусто было, моим гляделкам — закрываются, как только ты начинаешь читать. Ну, покойной ночи, Нона! И ты ложись, не сиди допоздна! — И еще раз наказав Нонке ложиться рано, уходил в свою комнату.
Так у них проходили дни и вечера. Скоро дед Ламби заметил, что Нонка невесела, все чем-то расстроена. Она уже не пела, смеялась через силу, а когда оставалась одна, лицо ее становилось грустным и задумчивым. «Не успела снять фату, а уже грустит! Да не грызут ли ее там эти бирюки-Пинтезовы? — терялся в догадках старик и горько качал головой: — Ох, дала она маху, но что же делать!»
Однажды вечером, после работы, Нонка, как обыкновенно, взяла книжку и стала читать вслух. Дед Ламби еще не успел задремать, как она вдруг умолкла. Оперлась локтем на книжку, задумалась о чем-то и долго сидела так, будто рядом никого не было.
— Нона, — сказал дед Ламби, — о чем ты думаешь?
Она вздрогнула и снова открыла книгу.
— Ни о чем, дедушка, так просто…
— Нона, скажи-ка, что с тобой. Сдается мне, ты что-то не в себе. Уж не больна ли?
— Что это тебе, дедушка, вдруг взбрело в голову? — засмеялась Нона.
— Ты от меня не таись. Не вижу я, что ли. Мучит тебя что-то.
— Ничего не мучит, дедушка, — сказала Нонка и снова склонилась над книгой.
Старик закурил папироску и замолчал. Ветер грустно завывал в трубе, а будильник на столе докучливо тикал. Из свинарника послышался какой-то шум и затих. Ничто не угнетало деда Ламби так, как молчание. Сидеть вдвоем с человеком и молчать!
Он вертелся туда-сюда, подбрасывал в печку, перевязывал зачем-то веревочки на своих царвулях, потом снова садился на кровать и закуривал. Он видел, что Нонка только смотрит в книгу, а мысли ее далеко, хотел поговорить с ней, утешить, но не находил слов. «Проклятый язык! Чтоб он отсох, — клял он себя. — Другой раз как развяжется, так не остановишь, а теперь вот хочу сказать Ноне хоть одно веселое словечко, посмешить, а он, ну, словно отнялся!» Но не успел дед этого подумать, как вдруг его осенило. Он посмотрел в сторону, потеребил усы и спросил:
— Дивлюсь я на тебя, Нона! Как это ты читаешь, а ртом не шевелишь?
— Про себя читаю, — ответила Нонка рассеянно.
— А, в уме! Ну, ум не у всякого есть. В моей голове только ветер гуляет. Так ведь. Вот пятилетние дети и те знают азбуку, а я не могу ее выучить. Ну, так скажи ты мне, есть мозги в такой башке или нет? Правду говоря, Нона, я еще с детства не больно умный был. Родился с закрытыми глазами, слепой, как котенок. Мама, царствие ей небесное, перепугалась, как бы не остался на всю жизнь слепым. Таскала она меня по всяким ворожеям и знахарям, никто не мог раскрыть мне глаза. Только, когда пошел мне третий месяц, они сами открылись. Обрадовались отец с матерью, да, вишь ты, ненадолго. Через два года — новая забота. Все соседские дети уж лопотать начинают, только я, двухлетний, молчу, как в рот воды набрал. Мучили меня наши и так, и эдак, чтоб хоть одно словцо из меня выдавить — не вышло. Еще два года прошло — я молчу. Все решили — это дитя немое, так немым и останется. Мать только плакала и на бога пеняла: «Мало того, господи, что обездолил ты нас — в нищете живем, а еще и немое дитя дал!» А отец-то как жалел и убивался: «Жаль, говорит, что столько лет собирался родиться на белый свет, а явился вот таким». Я, Нона, последыш, значит. Другие семь — девчонки были. И все-то из-за меня рождались. Родители думали: ну, второй уж будет мальчик, ну — третий, а представь: восьмым номером. Даже соседи их подняли на смех: «Что это, говорят, запрудили вы двор девчонками, того и гляди, село запрудите». — «Ничего, — отвечал батя, — чем больше, тем лучше!» Являюсь и я наконец. И мало того, что заставил их народить восьмерых детей, при нашей-то бедности, а еще и немым сделался. «Если хоть слово скажет, — говорил батя, — пир закачу».
Прошло еще два года. Мать сшила мне порточки, вырос я долговязым таким, а все молчу. Знаками объясняюсь: то хлеба попрошу, то чего другого. И вдруг, чтобы ты думала, Нонка, заговорил сразу. Потом рассказывал отец: «Строгаю я что-то во дворе, а ты вертишься тут же, играешь и вдруг повернулся ко мне да и выпалил: «Батя, сделай мне лошадку!» Ух, ты! Смотрю я на тебя и не верю своим ушам, а ты опять: «Сделай мне лошадку, я напою ее в реке». Тут я как хлопну, говорит, себя по голове — не сплю ли я, часом, — так даже шапка на землю свалилась».
Читать дальше