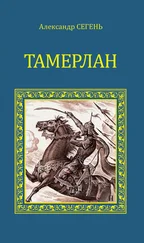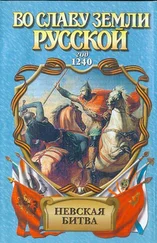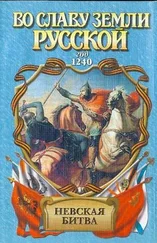— Полковник Мамонин, главнокомандующий Тетка объявляет вам, что пошла волна, труба зовет, теплоходы ревут. Жду вас у себя в полной боевой готовности в десять ноль-ноль по московскому времени. Форма одежды парадная, походную форму взять с собой. Две недели жизни прошу вычеркнуть из своего календаря. Как поняли?
— Слушаюсь, товарищ… прошу прощения, господин главнокомандующий. Немедленно приступаю к сборам.
Почему-то так всегда получалось, что когда Ардалион Иванович затевал очередную Тягу, это совпадало со свободными периодами моей и без того мало загруженной жизни, когда надвигалась скука, пустота, или, если говорить точнее, охватывало осознание пустоты, являвшейся единственным наполнением моей тогдашней жизни. Вот и к тому дню, когда началась Тяга-7, я успел быстро выполнить несложный, но хорошо оплачиваемый заказ для одного прибыльного издательства, и люки в мою пустоту снова широко распахнулись. От пустоты нужно было бежать. Я не спеша собрался, обзвонил всех, кого нужно было предупредить, что две недели я намереваюсь отсутствовать, и поругался с отцом, который взялся особо неистово бранить Ардалиона Ивановича.
— Если бы мы жили в Турции, то твоему Ардалиону давно отрубили бы сначала левую, а потом и правую руку, и он не смог бы больше воровать у народа, — зло скрипел зубами мой дорогой Иван Васильевич.
— Почему ты думаешь, что он непременно ворует? — неохотно отбрыкивался я.
— Потому что все крупные состояния нажиты нечестным путем, это диалектика, ее нужно знать и помнить.
— Если ты думаешь, что в Турции все ходят с отрубленными руками, то уверяю тебя, что ты заблуждаешься. Я пробыл в Турции неделю и не видел ни одного с отрубленными конечностями.
— Так вам их и станут показывать. Ну ничего, еще придет время, еще состоится праведный суд над всеми этими Ардалиошками. Наплодила их дерьмократия!
Отец переживал августовские события как личную трагедию. Он всерьез считал членов ГКЧП патриотами и героями, бросившими вызов разрушителям Отечества.
— Ну что ж, езжай, купайся в развлечениях. Но помни: настанет денек, наста-анет! — сказал мне отец на прощанье и тем окончательно испортил то легкое, летящее настроение, что появилось у меня после звонка Ардалиона Ивановича. До самого дома Тетки я вздыхал, мысленно продолжая спорить с отцом, покуда водитель такси не подвез меня к знакомому дому на Преображенке.
Дверь открыл мне вовсе не Ардалион Иванович, а уже известный Ордалимон Теткылдырым. На нем были турецкие шаровары, халат, туфли с застегнутыми вверх мысами и феска. Обе руки у знаменитого турка были целы, справедливое возмездие моего отца не коснулось их еще своей острой секирой.
— Лимон-паша, бардаклыр чикчирим! — приветствовал я его. — Мы что, снова едем в Турцию?
— На сей раз мы едем в Иран, но я буду изображать турка. Так надо для пользы дела.
— Что, прямо сейчас и сразу в Иран? — удивился я. — А паспорта? Неужели ты уже достиг такого могущества, что паспорта нам выдадут в аэропорту?
— Никаких аэропортов. Мы поплывем в Иран на теплоходе.
— Отлично! Я обожаю теплоходы! Значит, сначала мы перебираемся к морю? А как поплывем? Через Каспий или через Персидский залив?
— По Волге.
— По Волге? Мечта! Кто еще едет?
— Разумеется, Мухин.
— Что, с Птичкой?
— Разумеется, один. Никаких Птичек. Выпьешь что-нибудь?
— Как же расстанутся двое влюбленных?
— Лариса едет в Киев навестить отца.
— Вот уж никогда не поверю в это, — усмехнулся я, угощаясь баварским пивом.
— Ну, как бы то ни было, но с нами она не поедет, я строго-настрого запретил Игорю брать ее.
Через полчаса мы отправились на «фордке» Ардалиона Ивановича на Семеновскую. Увы, мне пришлось уступить просьбам Мухина и разрешить ему и Птичке пожить некоторое время в квартире, которую я снимал. Но видит Бог, они долго уламывали меня, прежде чем я согласился пустить их, но с условием — не более, чем на три недели, покуда Игорь не найдет себе другое съемное жилье или не одумается и не вернется к своей Цокотухе. Бедная Цокотуха! Она звонила мне почти каждый вечер, умоляла, чтобы я как-то подействовал на Игоря. В ее несчастной головушке вспыхивали самые невообразимые планы действий. Она поочередно предлагала: а) отравить Птичку, б) оклеветать ее, сказав Игорю, что она одновременно живет и со мной, и с Ардалионом и еще с десятком мужчин, в) засыпать телеграммами Мексику, чтобы Николка бросил все и срочно приехал, с) помочь Маше повторить подвиг Медеи — совершить самосожжение на Красной площади вместе с детьми, d) понарошку выкрасть одного из детей Игоря и Маши, шантажировать семейство Мухиных, вовлечь Игоря в борьбу за спасение ребенка и тем самым вновь объединить семью, разрушенную подлой соблазнительницей, т) нарисовать серию злобных карикатур на Мухина и Птичку и напечатать их во всех газетах и журналах, п) взорвать Москву вместе со всеми ее разрушенными семьями, любовниками и любовницами. Лишь в последний раз она звонила, находясь в более-менее спокойном состоянии, спросила, не удалось ли мне узнать, где именно живут неверный муж Маши Мухиной и неверная жена Николая Старова. Я, естественно, соврал, что не удалось. Птичка и Игорь крепко повязали меня, ибо отныне я стал соучастником их преступления и был виноват одновременно и перед Машей, и перед Николкой, дав приют любовной парочке. Это наполняло мою душу еще большей пустотой. Я не мог даже представить себе, что испытает Николка, если только выяснит, что не кто-нибудь, а его лучший друг предоставил свою съемную квартиру жене-изменщице. Но куда хуже было бы, если бы Птичка и Игорь сожительствовали в квартире Николки. Все-таки у них хватило стыда не пользоваться жильем обманутого мужа.
Читать дальше