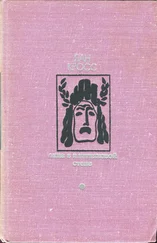Когда я переложил эти бумаги сперва на немецкий, а потом, чтобы они были всем понятны, с большим трудом на эстонский язык, я не счел нужным скрыть от Розенмарка, что я думаю по поводу их содержания. Да, да, прошлым летом и осенью я раза четыре или даже пять в свободные субботние и воскресные вечера приходил по поводу этих и еще многих других документов к Розенмарку домой. Его квартира помещалась под одной крышей с трактиром, рядом с чистой половиной, и туда можно было проникнуть как через дверь за прилавком, так и через отдельный вход со двора. Но роскоши там было гораздо меньше, чем я почему-то ожидал.
Помню, в тот вечер, когда мы в доме Симсона сговаривались о вознаграждении за мое посредничество и сапожник Упомянул, что возможности у них, как известно, не велики, Розенмарк поддакнул: «Все так…» — мне почему-то показалось, что он сказал это просто из торгашеских соображений (чтобы поменьше мне заплатить), а сам считает, что возможности у них есть, и, может быть, даже, как это ни удивительно, далеко не малые… Допускаю, конечно, что словам трактирщика уже позже я придал этот смысл. Во всяком случае, полторы комнаты Розенмарка, его беспорядочное, запущенное холостяцкое жилище как-то меня разочаровало. Голые, блестящие, от плохой тяги закоптевшие бревенчатые стены. Крохотные, заросшие грязью оконца. Несколько случайных табуреток, очевидно, из тех, которые охромели от пинков пьяных в трактире, и хозяин вбил несколько гвоздей, чтобы ими можно было как-то пользоваться. Неубранный стол с хлебными крошками, которые я вынужден был каждый раз сметать рукой перед тем, как разложить на столе работу. Кое-как прикрытая несколькими овечьими шкурами кровать. Разочарование разочарованием, но, с другой стороны, все это служило мне утешением. Боже мой, я же не мог заметить, как я уже говорил, что между этим мужланом с греческим профилем и Мааде что-то было. Но, не обнаружив в доме трактирщика чистоты и порядка, не увидев какой-нибудь яркой ткани вроде дорожки или салфетки — одним словом, ни малейшего следа женской руки, я понял: то, что могло быть между ними, до ухода за жилищем, до создания уюта, во всяком случае, не дошло.
Итак, я побывал там пять или шесть раз и до сих пор не знаю, остались для госпожи Тизенхаузен мои хождения в трактир тайной или она решила tacite [15] Молча ( лат .).
мне их разрешить.
Обычно трактирщик впускал меня в свою комнату через дверь за прилавком, потом проверял, заперта ли входная дверь со двора, клал передо мной чернильницу, бумагу, гусиное перо, доставал из печной ниши вместительную железную шкатулку и водружал ее рядом. Первые два раза он сам отпирал шкатулку ключом и протягивал мне привилегии короля Эрика. Потом он стал класть ключ на крышку шкатулки, и я уже сам вынимал и укладывал обратно то, что мне требовалось. Я раскладывал перед собой чистые и наполовину исписанные листы, а еще и те, на которые я выписывал незнакомые мне или многозначные слова из латино-немецкого словаря, обнаруженного на полках госпожи Тизенхаузен, и приступал к работе. Через час-полтора или два трактирщик сам приносил мне ужин и кружку пива. Иногда он какое-то время смотрел, как я ел, и мы обменивались несколькими фразами. О плохом урожае, который предвещало дождливое лето, о ценах на рожь, уже начавших расти. А раз или два он спросил, известно ли мне, что намеревается предпринять по отношению к городу госпожа Тизенхаузен, но этого я не знал. И каждый раз мне казалось, что мы говорим не о том. А однажды он сказал, что аптекарь Рихман — он сказал: господин аптекарь Рихман — хочет прийти посмотреть, что я успел сделать.
Этот господин, напоминавший изжелта-зеленый соленый огурец, несколько раз встречался мне на улице. И после того как я побывал у него в аптеке, куда моя госпожа посылала меня за лекарством для заболевшего Бертрама, при встречах с Рихманом я приподнимал шляпу. Хотя, отправляя меня в аптеку, госпожа сказала, что только потому посылает туда своего человека, что доктор Гётце уехал. Ибо аптекарь — непростительно обнаглевший старый дурак… Трактирщику, наверно, показалось, что я уделил слишком мало внимания его сообщению о возможном приходе аптекаря. А что мне было сказать? Если эти бумаги хранились у аптекаря, то вполне естественно, что старика могло интересовать мое переложение. Трактирщик уселся напротив меня на табурете и сказал:
— Должно быть, господин Фальк еще ничего не слышал про господина Рихмана?
— Нет. А что?
Читать дальше
![Яан Кросс Раквереский роман. Уход профессора Мартенса [Романы] обложка книги](/books/35175/yaan-kross-rakvereskij-roman-uhod-professora-marte-cover.webp)
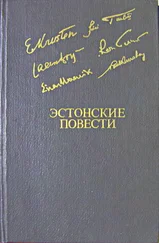
![Яан Кросс - Императорский безумец [пьеса]](/books/34929/yaan-kross-imperatorskij-bezumec-pesa-thumb.webp)