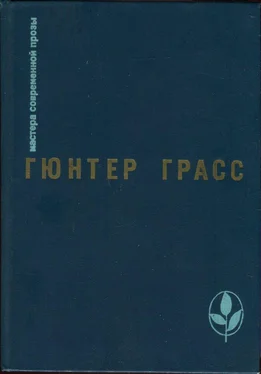Ему пришлось прожить два с половиной года без зубоврачебной помощи, терпя боли, которые имели обыкновение повторяться и которые с каждым разом усиливались, ведь ему нечем было их утишить, разве что золотыми словами Сенеки: «Только бедняк считает свой скот», но и эти боли перебивала и перекрывала другая непрекращавшаяся боль — по задушенной невесте. Без арантила, цинично утешаясь поздним Ницше — Сенека иногда переставал действовать, — повторяя слова Ницше: «С точки зрения морали мир фальшив. Но поскольку мораль сама часть этого мира, она тоже фальшива…», он перебирался из одного домишки на дачном участке в другой, искал и находил в домашних аптечках разные таблеточки, все, кроме арантила, ибо его выдают только по рецепту врача. («Итак, я ворочался в заброшенных сторожках каменотесов на Майенском поле, в продуваемых сквозняками сараях в предгорьях Эйфеля, ворочался, будто меня терзали не боль, а страсть, и сжимал в объятиях свою невесту — охапку шуршащего сена — о, Линдалиндалиндалинда — и слышал ее шепот: «Не встревай, ради бога. Это касается только отца и меня. Я ему все докажу. Тебе до этого вообще дела нет. Пусть я десять раз с этим Шлоттау. И перестань угрожать мне своей дурацкой велосипедной цепью…»)
И тогда он пошел в следственный отдел в Кобленце и сказал: «Это я!» После чего убийца родом из Западной Пруссии вежливо положил на стол свое истрепавшееся за долгие годы беженское свидетельство за литерой «А».
Полиция сперва не поверила. Только когда он засмеялся, несмотря на боль, засмеялся, обнажив тем самым просвет между верхними резцами, равно как и явную прогению, только тогда они стали чуть ли не радушными: «Давно пора, старина».
Не хочу долго распространяться о научных заслугах так называемого брачного афериста-убийцы (он передал полиции созданную им за двенадцать лет рукопись весьма солидного объема: «Ранний Сенека как воспитатель будущего императора Нерона. Философские заметки беглого преступника»).
Хочу огласить его мольбу о помощи, зафиксированную в протоколе: «Находясь под следствием, прошу, чтобы меня показали тюремному дантисту. Считаю уместным любое вмешательство, и в случае, если окажется необходимым, удаление причиняющих мне боль зубов. Если же вмешательство будет отложено, покорнейше прошу прописать арантил, ибо арантил не выдают без рецепта врача…»
Благодаря арантилу — двадцать драже за две марки тридцать — я писал, не испытывая боли, окрыленный побочным действием этого лекарства: Забыты поражения! Теперь мы пораскинем мозгами и начнем побеждать.
Незадолго до того времени, когда я обычно распивал пиво, я снова стал причитать: Ох уж это воскресенье… Эти обои… — и предавался воспоминаниям о всяких старых историях, о неизменном шепоте на андернахском променаде. Но тут две таблетки помогли мне переключиться с бесплодного воскресного самокопанья на частный случай с одной моей коллегой. (Как мы уличаем сами себя… Как все ударяет рикошетом…) Ведь если бы Ирмгард Зайферт не нашла этих писем, она была бы счастливей и, пожалуй, ничего не знала бы о себе; но она их нашла и теперь все знала…
Визит с субботы на воскресенье к ее матери в Ганновер, необходимость хвалить их любимое семейное блюдо — говяжье жаркое с картофельными клецками — и без конца выслушивать уговоры: «Возьми еще кусочек, Ирмгард. Раньше, детка, ты всегда уплетала за обе щеки…» А потом мать решила вздремнуть после обеда (казалось, она на часок вообще ушла из жизни), и вдруг она осталась одна среди старой мебели и обоев, которые, собственно, должны были бы вызывать у нее умиление, и этот преследовавший ее повсюду, никогда не выветривавшийся запах мастики для полов, и внезапное сердитое чириканье целого выводка воробьев в палисаднике; еще во время обеда, когда сладковато-приторный вкус грушевого варенья на языке уже стал ослабевать, ее матушка обронила несколько слов насчет школьных табелей дочери, фотографий класса, тетрадей для сочинений и писем — в сущности, старого хлама, связанного в пачки и мирно покоившегося на дне сундука в чердачном помещении, — все эти случайности, сложенные воедино, и побудили Ирмгард Зайферт, которая так же, как и я, преподает немецкий и историю (и еще дополнительно ведет уроки музыки), подняться на чердак их одноквартирного домика, надеть в предвидении пыли фартук матери и открыть большой, даже не запертый сундук.
На моем листке бумаги стали в ряд отдельные фразы: косой солнечный луч, падавший через чердачное оконце. Заржавевшие полозья ее детских санок. Семейные дела — покойный отец Зайферт был начальником отдела доставки в фирме Гюнтера Вагнера. (По сию пору она покупает карандаши со скидкой.) Аквариум Ирмгард: барбусы, вуалехвосты и гуппи, пожирающие свое потомство.
Читать дальше