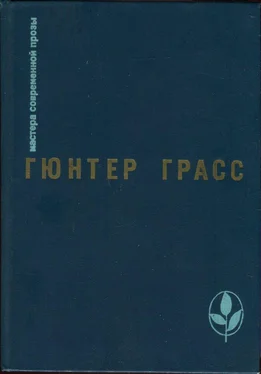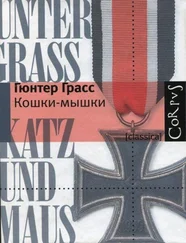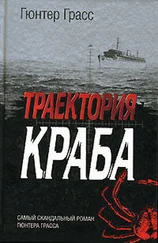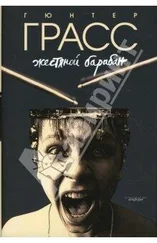Но Грасс не был бы Грассом, если бы обошелся без трюка. На этот раз трюк заключается в следующем: пожелав воссоздать в художественном произведении историю и духовный опыт «Группы 47» — литературного объединения, с благословения и в русле которого Грасс сам пришел в литературу ФРГ, — он не просто рассказывает эту историю, а перемещает ее в XVII в., в Германию эпохи Тридцатилетней войны. И подобно тому, как в 1947 г. собрались и основали литературное сообщество западно-германские писатели и поэты, так и в повести Грасса собираются в 1647 г. (за год до окончания Тридцатилетней войны) немецкие писатели, поэты и музыканты той поры: Грифиус, Логау, Гергардт, Гриммельсгаузен и другие.
Грасс не мог не написать этой повести, он будто с самого начала шел к ней — как к некоему заранее прозреваемому итогу — все тридцать с лишним лет своего писательского пути. Она возникла и оформилась в совпадениях дат, в сплетении годовщин, она будто продиктована ему извне, гороскопом самой судьбы. Можно представить себе, как после выхода в 1977 г. «Камбалы» писатель, работая над «Встречей в Тельгте», вспоминал юбилеи: двадцать лет назад, в 1958 г., он работал над «Жестяным барабаном» и получил за чтение главы из романа премию «Группы 47»; выход «Встречи в Тельгте» он приурочил к 1979 г., к двадцатилетию со дня выхода в свет «Жестяного барабана». И конечно, для Грасса, всегда любившего числовую символику, неодолим был соблазн соотнести два 47-х года, две эпохи, в которые немецкая литература осмысляла трагический опыт мировой войны (ибо в европейском масштабе Тридцатилетняя война XVII в. тоже была «мировой»).
Обращение Грасса к той эпохе не случайно еще и вот почему: он интересовался ею давно, поэтике ее художественного стиля — барокко — был как писатель многим обязан, Гриммельсгаузена не раз называл в числе своих учителей; подступом к художественному воплощению темы был один из важных эпизодов романа «Камбала».
Грасс, таким образом, создает повесть-притчу, сопрягая две эпохи. Но швы здесь глубоко запрятаны, модернизация минимальна и как бы органична, провоцируется самим подобием ситуаций. Конечно, поэты XVII в. никогда не собирались такой многолюдной кучкой (хотя в принципе поэтические сообщества были в те поры весьма в моде), но Тридцатилетняя война действительно наложила глубокий отпечаток на всю немецкую литературу XVII в. Уместно напомнить здесь, что та же параллель много раньше Грасса осмыслялась Бехером, назвавшим, например, свой знаменитый цикл сонетов по заголовку стихотворения Грифиуса «Слезы отчизны», а также Брехтом — в не менее знаменитой пьесе «Мамаша Кураж и ее дети»; так что Грасс продолжает здесь весьма представительную традицию.
Впечатления натяжки в повести Грасса не возникает еще и потому, что писатель, хорошо зная язык и нравы той эпохи, заставляет ее ожить перед нашими глазами во всех сочных деталях, на которые Грасс всегда был мастер. И когда его поэты, съехавшиеся в Тельгте, читают по очереди свои произведения и потом обсуждают их, в точности повторяя ритуал собраний «Группы 47», это, по сути, и единственный художественный анахронизм, потому что творческий облик каждого поэта сохранен таким, каким он и был, своеобразие его манеры воссоздано чуть ли не с литературоведческой точностью. Повесть действительно дает живую и впечатляющую картину немецкой литературы той поры и в этом смысле имеет серьезные основания называться исторической.
Но, конечно, поэтически активен и принцип притчи, он приподнимает жанровые сцены на уровень более широкого обобщения. На этом уровне Грасс пишет повесть о величии и бессилии поэзии перед суровой поступью истории. Истерзанная Тридцатилетней войной и конфессиональными распрями Германия здесь не просто место и фон действия: реальная жизнь то и дело врывается в возвышенные декламации и словопрения этого Парнаса известиями об убийствах и грабежах, зрелищем проплывающих по реке трупов, картинами мародерства солдат. Ирония пропитывает повествование: мало того, что поэты не могут из-за этих досадных помех сосредоточиться на тонкостях своего ремесла, — выясняется еще, что даже подаваемый им (той самой мамашей Кураж) роскошный обед организован посредством ходового в ту пору мародерства. А когда поэты решают в заключение опубликовать коллективное «мирное воззвание», после бурных дебатов обнаруживается, что они могут выдержать его лишь в самых общих, декларативных выражениях: всякая конкретика сразу же грозит кого-то задеть, чью-то веру обидеть. Но и этому манифесту не везет: в последнюю минуту, в последней главе загорается харчевня мамаши Кураж, приютившая поэтов, и сгорает забытый в спешке на столе манифест — «так и осталось невысказанным то, чего все равно никто бы не услышал».
Читать дальше