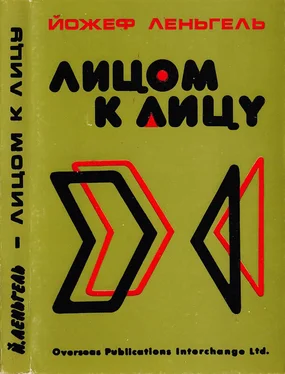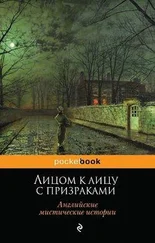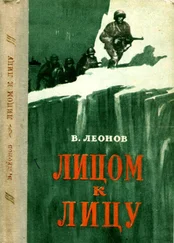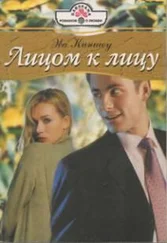— Может быть, а может быть и нет. У нас считанные дни, минуты.
Я не отвечаю. Я сама это знаю и вижу, что он в отчаянии.
— Но ведь вполне возможно, что тебе удастся уехать к себе.
— Мы поедем вместе.
— Зачем? Чтобы висеть у тебя на шее?
— Не говори глупостей. Мы поедем домой, вместе. Вместе… Поедем?
— Я поеду позже, ты за мной пришлешь.
Я чувствую, что поеду… поеду в Казахстан, в Сибирь… Может быть, это он будет для меня обузой… Так всегда — или один или другой… Я начинаю жалеть его, во мне уже больше жалости, чем любви.
— Обо мне ты не беспокойся, — говорю я, стараясь его успокоить. — Никого у меня вроде нет, но меня уже приглашали приехать. В Казахстане есть подруга, она пишет, что там можно устроиться. Младшая сестра тоже приглашает, у нее муж моряк, это совсем другие люди, чем старшая сестра. У той муж в органах. Когда они поженились, он был сереньким захолустным пограничником, а теперь — майор. А тот моряк хороший.
Когда напьется, плачет, и сестра пропет, что он меня любит.
— А майор?.
— Что? А, нет, он не следователь. По крайней мере, так сестра говорит. Но она боится меня приглашать.
— Ты совсем одна, видрппь, совсем одна.
— Да, после того, как отец умер в ленинградскую блокаду. Он меня любил больше всех, однажды взял меня к себе на шхуну, хотя они не пускают женщин на борт. Я помогала чинить паруса. Это тяжелая работа, но я справлялась не хуже парней.
— А теперь — воплощенная женственность.
Я глажу его руку. Потом беру его рубаху и портянки.
— Пойду намочить.
— Нет, не надо, оставь, пожалуйста.
— Что ты, такая мелочь. Я это сделала бы для каждого.
— Ты сильная…
Он произнес это в тот самый момент, когда я собиралась сказать: «давай покончим с собой вместе». Зачем это говорить? Может быть, это не ему нужно, а мне? Выношу его вещи на кухню и возвращаюсь с распоротым платьем золовки.
— Не шей сейчас.
— Так время быстрее идет.
Он немного обижается. Так быстро?.. Но он сразу же мирится, и я обещаю ему, что мы вместе пойдем за карточками и картошкой. Потом он сказал мне, что сосед, с которым он вчера возвращался со станции, советовал покупать тресковую печенку, потому что она дешевле. А потом, сметывая платье, я рассказала ему, как рассказывают маленьким детям, об отце, уходившим за рыбой в море, о сетях, которые мы развешивали сушить на солнце. Отец просиживал во дворе весь день, и все время молчал, только пыхтел своей трубкой. А когда я подходила, он гладил меня по голове. Никто, кроме меня, не осмеливался к нему подходить.
А теперь он мне гладит голову. Он просит меня встать. И смотрит на мои волосы, светлые, густые, такие длинные, что падают ниже талии…
— Охранники снимали волосы каким-то химическим средством, но мне один сказал: «Давай, проходи быстрее. Не могу такое сделать»…
— В тебя каждый мужчина влюбится.
— Если перестанут влюбляться, незачем больше жить.
Я снова могла сказать: умрем вместе. Но я не говорю. Он счастлив, что я принадлежу ему — и я молчу. Я любила принадлежать только самой себе… Этого я ему тоже не говорю. Но и не скрываю.
— Я уж так устроена, — мне кажется, он должен понимать, о чем я говорю, — когда меня били, по голове — вот тут, в затылок — я не плакала. Ни за что. Я решила, что эта сволочь не дождется моих слез. А когда он сказал: «К чему упрямиться? Ваш муженек сознался, как миленький», я не поверила ни на секунду. Я же знала, что ни предателем, ни шпионом, ни врагом Константин Владимирович не был. И знала, что он не наговорил бы на себя, не дал бы ложных показаний. Я была дочкой рыбака, а Костя — дворянским сынком, учился в Морском кадетском корпусе. В 1917 году он был уже мичманом. Но из нас двоих он был настоящим коммунистом. Вы, мужчины, живете в воображаемом мире.
— А ты?
— Я раньше его увидела, что происходит. Тогда он говорил: «В нашей стране невиновных не арестовывают». Я ему говорила: «А твои товарищи, Костя? Как ты можешь так говорить?» А он отвечал: «Всех невиновных освободят». Тогда я ему говорила: «Наш черед тоже придет», но он не верил. И говорил, что я не разбираюсь в политике. Это верно, я не разбираюсь и не строю из себя ученой, но все же я была права… к несчастью.
Андрей смотрит на меня:
— Я был немножко, как Константин Владимирович, и немножко, как ты. Я все время сам с собой спорил…
— А потом… следователь показал мне его фотографию… Знаешь, в профиль и анфас. Он поседел за те несколько недель, бедняга, и в глазах у него стояли слезы.
Читать дальше