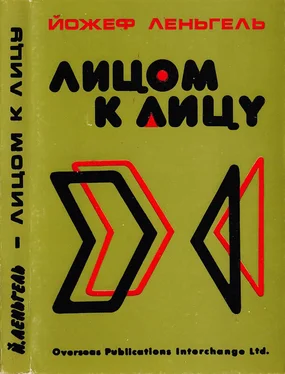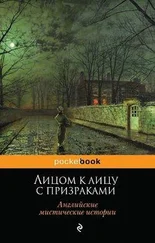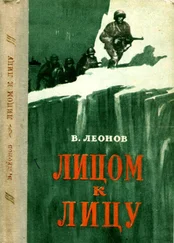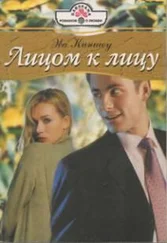— И тем не менее мы меняемся.
— Да, да. За двадцать четыре года — я не ошибаюсь? — все наши клетки обновилися три раза. Но может измениться нечто большее. Я — пусть я сломан, иссушен, нем и глух — я остался собой. Но ты, Баница, — прости мне эти слова — стал другим, стал Баницей, потерявшим смелость, хотя смелости у тебя все еще больше, чем…
Поезд останавливается. Скоро подъедем к Александрову. Еще четыре километра. Сверкают огни здешней текстильной фабрики… Каждую неделю тут задерживают одну-две дюжины воров и забирают в Александров. Воров. Их ловят у выхода, они наворачивают на голое тело два, три или пять метров материи… какие желтые, тощие тела! Прибитые, пепельные лица, изможденные тела… Но здесь крадут и целые километры тканей, если верить одному инженеру. Настоящие воры приезжают на фабричный двор грузовиками, у них всегда есть пропуска, они продают ворованный материал на рынке рулонами. И они не боятся. На том самом рынке, куда я собираюсь идти за хлебом. Это не настоящий рынок, на нем нет ни лотков, ни ларьков, не слышно зазывного пения торговок… Чего я хочу?.. тир, качели, карусель… Попасть в яблочко, выиграть вазу, самому стоять мишенью, такой деревянной куклой, пусть в меня бросают кольца, потом уйти с разноцветным бумажным флажком… Я хочу уйти сейчас — за моим братом Йоской. А вдруг удастся найти его могилу? При жизни мы не часто встречались… Для тебя, Йоска, честь всегда была важнее жизни; и я тоже так думал когда-то, но сейчас молчу. Укрыться бы в женщине, между грудями женщины я был бы в безопасности. На день, на час, на минуту…
Честь? В лучшем случае не бесчестье, не позорное бесчестье с обнаженной до мяса душой… Ибо что другое остается, когда слишком поздно даже умереть. Ведь даже для самоубийства нужна молодость, нужны силы. Нет, Баница, я больше ничего не хочу. Я уже в безопасности.
Закрываю глаза…
В окно заглядывает румяная, красноносая баба с развевающимися волосами. Махонькая лачуга, нора с крохотным окошечком, затянутым провисшей, пузырящейся марлевой сеткой от мошкары. Женщина упирается лицом прямо в сетку, сетка натягивается, едва не лопается. На этой красномордой бабе вечернее краснобелое платье с оборками и гофрированным воротником. Она заглядывает в комнату, старается увидеть ее всю. Я подхожу ближе, и как только ее лицо начинает давить на сетку, хватаю за нос, стискиваю пальцами и сильно вывертываю.
— Свинья, грязная свинья! — визжит она, тараща на меня стеклянные глазки, вырывается и убегает… Звать на помощь.
Появляется сопливый парень, останавливается у другого, широкого и очень высокого окна. Я подаю воронье перо одному из моих товарищей в телогрейках. Воронье перо вылетает из сетки, как бумажная стрела. Парень швыряет ее обратно. Он вопит: «Она отравлена! У них томагавки и автоматы!»
— Иди сюда, собака, у меня даже ножа нет, — и я распахиваю дверь.
Они входят.
Они лезут. Мягкозадые, толстобрюхие, белесые парни. Они идут лишать чести наших женщин. Банда жирных, гладких импотентов, они несут палки и прутья, чтобы палками и прутьями насиловать наших женщин. Но теперь я их бью, молочу, убиваю. Они бросаются на меня, у меня ранена нога…
В этом отвратительном, темном вагоне ужасный холод. Боже мой, как мерзнет нога. Всегда нога. Я чувствую мои обмороженные пальцы, порванные сухожилия. Терпение не поможет. Отмороженная часть тела не выносит холода. Мы никак не привыкнем к этому: что болело однажды, будет болеть все время.
Вонь холодного махорочного дыма. Снаружи не намного холоднее…
Луна. От ее мягкого света, от чистоты снега какая-то неосязаемая, невесомая, туманная красота парит над крышами домов, красота более зыбкая, чем театральные декорации, нарисованные на воздушных кусках марли. Внутри дома провоняли потом, но сейчас это мне и нужно: тепло.
Хорошо бы сидеть в освещенном, теплом вагоне, читать детективный роман… забавляться отгадками… Кто убил?..
Опять трогаемся. До Александрова еще несколько минут…
Этот беспутный, нищий юноша, воспитанный в самой гнусной из всех семинарий, всегда голодный, обученный лгать; этот бывший семинарист, готовый отречься от Бога, человека, человечности. Хороший замес для революционера. Умеет проповедовать, умеет и предавать…
Не в этом суть. Кем он был, откуда явился, не имеет значения. Там, где он сейчас, — на самом верху, — отомстить так легко, что месть не дает удовлетворения. Когда власть почти безгранична, теряет смысл обычный мотив, легальный аспект преступления: преступник тот, чьим интересам служит преступное действие… Шаткость правления Ричарда III… как ее сравнить с уверенностью его хватки? Без соперников, практически без наследника… Но даже величайшему обжоре, которому доступно все, власти всегда недостаточно. Самая полная власть — над женой. А если нет жены? Власть над собакой. Но если у кого-нибудь двести миллионов слуг, он не может вынести, когда хотя бы один из них отказывается служить.
Читать дальше